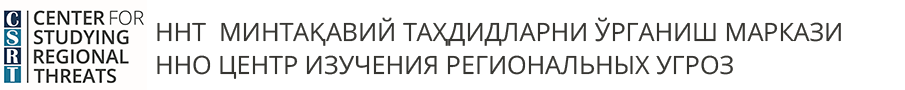Институт по изучению восточных рукописей (с 1950 года Институт востоковедения – ИВ)[2] АН Узбекистана был создан 3 ноября 1943 года, вместе с другими научными учреждениями Академии и одновременно с Духовным управлением мусульман республик Средней Азии и Казахстана[3]. Совпадение по времени создания этих двух учреждений скорее случайно. Возвращение религии легитимного статуса произошло, конечно, на правилах, диктуемых государством. К этому времени значительная часть старой элиты (в том числе, религиозной или джадидов) стала частью советского официального электората, однако на условиях отказа от религиозности и принятия советской риторики. Создание официального духовного учреждения означало так же, что вытесненные на периферию публичной жизни религиозные деятели (по крайней мере, их часть) были включены в советское официальное пространство. Религиозность уже не означала враждебность, однако в официальном поле продолжала квалифицироваться как политическая или идеологическая неблагонадежность (прецеденты изложены ниже).
Сотрудники с богословским образованием упомянутого Института стали одной из форм локального включения «религиозного элемента» (пользуясь вокабуляром того времени) в советское научное учреждение, или в поле «советского востоковедения». Нужно сказать, что сотрудничество российских востоковедов с мусульманскими богословами для сугубо академических (светских) задач имело место в Российской империи или в Британии, что в той или иной степени уже изучено[4]. К серьезным конфессиональным или политическим проблемам такое сотрудничество не приводило.
Однако вовлечение мусульманских ученых в советское научное учреждение, особенно в 1940–1950-х годах имело уже другие контексты, так или иначе отражавшиеся на статусе ‘улама’-востоковедов. Именно этот статус и особые контексты я постараюсь проанализировать в предлагаемой статье. Я рассмотрю способы их адаптации к непростой действительности сталинского периода, когда они становились жертвами идеологических манипуляций и интриг. Мне придется кратко остановиться на ряде документов и газетных публикациях, связанных с переломными моментами в истории ИВ (на фоне зарождения «узбекской ориенталистики» советского типа), когда само существование домулло в самом идеологизированном научном учреждении Узбекистана, ставилось под сомнение. По условиям времени (большевизация, атеистическая политика) богословское образование воспринималось властями не как достоинство, а скорее как признак «политической неблагонадежности». Поэтому в их биографии в графе «социальное происхождение» обязательно включались ремарки вроде «из бедной/средней крестьянской семьи», которые часто не соответствовали действительности[5]. Документы и публикации важны как единственный источник политического и идеологического дискурса в конце сталинского периода, вновь обострившую проблему эпохи ранних большевиков об использовании «дореволюционных специалистов».
Старые сотрудники в новом институте
Итак, вновь созданный Институт кратко называли «Институт рукописей» и реально к работе он приступил лишь в январе 1944 г. (Ахунова, Лунин, 1970, 104). Основу знаменитого фонда рукописей Института составили манускрипты Отдела редких рукописей Государственной публичной библиотеки им. Алишера Навойи (Muminov, 1999). Заведующий Отделом был знаменитый библиограф и востоковед Е.К. Бетгер[6]. В 1928, 1932, 1935 согласно специальным постановлениям Совета народных комиссаров УзССР, в этот Отдел передавались рукописи и документы, написанные в арабской графике, которые хранились в областных библиотеках, в первую очередь, Бухары, Самарканда, Хивы и других исторических городов. До 1935 года было собрано более четырех тысяч рукописей[7]. На большинстве фолиантов ИВ АН РУз можно до сих пор увидеть оттиски печатей этих учреждений и областных библиотек (Бухары, Самарканда, Коканда, Хивы и др.).
Среди сотрудников Восточного отдела библиотеки имени Навойи были такие знаменитые востоковеды своего времени как Александр Эдуардович Шмидт, Александр Александрович Семенов (1873-1958)[8], Михаил Александрович Салье, Эдуард Карлович Шмидт, Алексей Молчанов и другие. По инициативе А.Э. Шмидта в начале 1920 года началась работа по описанию и каталогизации имеющихся рукописей, в которой участвовали все названные сотрудники (Крачковский, 1958: 164, 167; Ирисов, 1964: 12, 13, 15, 18.). В 1935 году к ним присоединился И. Одилов (о нем см. ниже) (Шмидт, 1935).
После начала кампании преследования востоковедов в 1939 году и ареста А.Э. Шмидта (умер в тюрьме 1939 г.), А.А. Семенова и др., отношение к рукописям изменилось. Их сочли частью наследия, связанного с «религиозным мракобесием», как тогда формулировали в официальных документах и газетных статьях. Рукописи удалось спасти от перевода в закрытый фонд специального хранения (т.н. «Спецхран»)[9]. Тем не менее, рукописи оставались без особого отведенного для них помещения. Их описание с составлением картотеки продолжалось исключительно по инициативе Е. Бетгера, А. Молчанова, М. Салье и И. Одилова, которые решили поделить фонд на две части: 1. Рукописи, которые имели отношение к наукам (медицине, философии и пр.), истории, биографиям (в число которых были внесены и суфийские жития/манакибы) и литературе; 2. Учебники медресе, различные комментарии и компендиумы сочинений по фикху, каламу, тафсиры к Корану, собственно экземпляры Корана, плохо сохранившиеся и неполные (дефектные) рукописи (без начала и конца) и т.п. В результате, фонд разделился на т.н. «Основной» и «Вспомогательный», который позже назван «Дублетный». По официальной версии в последнем должны были сосредотачиваться некачественные или дефектные копии рукописей Основного фонда. Однако «Дублетный фонд» в основном стал хранилищем религиозных сочинений, особенно учебников для медресе (Муродов: 157; Muminov A., 1999; сведения покойного А. Носирова, 1986 г.). Отдельный фонд составили литографии и печатные издания.
Вместе с приказом о создании Института по изучению восточных рукописей АН УзССР, в том же 1943 году вышло еще одно постановление о передаче манускриптов и документов в арабской графике из всех хранилищ республики в фонд нового Института. После этого количество рукописей Института перевалило за 15 тысяч томов. К 1971 году из их числа было описано около 11 тысяч (Муродов, 157). После создания Института сбор рукописей и документов продолжался, хотя менее интенсивно и в основном за счет частных пожертвований и покупки книг у населения[10].
Первым директором Института изучения восточных рукописей был назначен А.А. Семенов (1943-1947). Соответственно, сотрудники Отдела восточных рукописей автоматически стали «научными работниками» нового Института, который получил в свое распоряжение дополнительные помещения в том же здании библиотеки (бывший Главный штаб и офис Генерал-губернатора). В состав сотрудников Института, наряду с упомянутыми востоковедами, были введены сотрудники, имевшие традиционное богословское образование (мактаб, медресе). Именно на них была возложена обязанность идентифицировать и описывать оставшуюся неописанной часть солидного фонда рукописей и около 10 тысяч литографированных изданий (книг и журналов), принимать от населения новые рукописи, оценивать их и так далее. Созданные ими каталоги (по авторам, по названиям сочинений, по номерам рукописей и отдельно каталог литографированных изданий) до сих пор используются всеми сотрудниками и зарубежными исследователями для поиска и заказа рукописей и документов.
В Институте востоковедения таких сотрудников называли с пиететом «домулла/домлалар», «устозлар»[11]. Как мне удалось установить, в кругах религиозной элиты упомянутого САДУМ, к ним прилагали так же определение ‘улама’-востоковеды (Sharqshunos ulamolar). В этом определении не было дистанциирования или отчуждения. Богословская элита советского времени полагала, что ИВ не выполнил бы своей задачи, если бы в его стенах не работали ‘улама’-востоковеды. Большинство из них обладали хорошим богословским образованием, которое оказалось полезным Отделу редких рукописей Публичной библиотеки и затем Институту. Однако богословское образование, к которому поначалу власти относились настороженно, со временем было реабилитировано.
Первыми из сотрудников Института с религиозным образованием стали: потомок бухарских ходжей (خواجه) Ибодулло Одилов, родившиеся в Ташкенте Абдулла Носиров, Абдулфаттах Абдуллаев и Ишанходжа Мухаммадходжаев[12] (их краткие биографии см. ниже). Они хорошо знали арабский, персидский и тюркские языки, а некоторые из них, согласно тогдашней традиции, писали на них стихи. Кроме того, большинство из них были библиофилами и хорошо разбирались в мусульманской рукописной традиции, в сочинениях разного жанра, документах и т.д.
Особая заслуга в привлечении ‘улама’ в Институт принадлежит его второму директору Вахид Юлдашевичу Захидову (1947-1950). Он, будучи куратором работы Института рукописей, отыскал и привел в него сотрудников с религиозным образованием и хороших каллиграфов: Абдулфаттаха Расулова, Абдукадыра Мурадова, Ишанходжа Мухаммадходжаева, Баситхана Захидова и др.
Конечно, вовлеченные в круг задач Института рукописей ‘улама’ старались адаптироваться к новым условиям, и вполне понятна их позитивная реакция, когда обретенные ими знания и их эрудиция хотя бы частично оказались востребованными, в условиях, когда старое традиционное образование становилось чаще поводом для преследования или идеологического отчуждения. В самом начале создания Института они продолжали работу по каталогизации и краткому описанию рукописей фонда, начатую еще в Отделе восточных рукописей Государственной публичной библиотеки[13]. Любопытно, что вплоть до 1946 года домулла могли писать свои собственные биографии, отчеты в арабском шрифте на узбекском языке,[14] а большинство из них так и не освоили русский язык, который долгое время оставался основным языком узбекистанского востоковедения. Возможно по этой причине языком картотеки рукописей стал узбекский (именно в арабском шрифте). Этот принцип описания карточек на узбекском заложен был И. Одиловым, карточки которого (с предварительными описаниями рукописей), стали основой нынешней картотеки ИВ АН РУз.
Кроме каталожной работы, ‘улама’ были привлечены к работе по переводу отдельных исторических сочинений и к переписыванию некоторых произведений поэтов и мыслителей прошлого, которые были признаны в качестве идеологически приемлемых символов новой республики. В этом процессе первая скрипка была отдана востоковедам. Например, известный русский и затем советский востоковед И.Ю. Крачковский полагал, что описание, изучение и публикация рукописного наследия в арабской графике станет «важными источниками для истории народов СССР» и самой необходимой частью «культурного строительства» новых наций (Крачковский, 1956, 160 и дальше).
Однако наследие средневековья требовало осторожного подхода, учитывая неприязненное отношение большевиков к религии и к наследию, которое в первые декады Советской власти чаще было предметом «марксистской критики», чем изучения. Одновременно активное «нациестроительство», начавшееся примерно с середины 1920-х годов, должно было заменить доминирующую религиозную идентичность на этническую (национальную, социалистическую). Это, в свою очередь, предполагало новую интерпретацию исторического прошлого наций (народов) и соответственно, новых социалистических республик. Следовательно, обращение к прошлому и сотворение национальных историй было так же неизбежно, как и его критика.
В этой своеобразной ситуации селективного выбора и новой интерпретации истории, кроме всего прочего, нужны были приемлемые фигуры-символы для новых республик. Еще до создания ИВ первым прецедентом идеологической реинтерпретации прошлого стала фигура Алишера Навойи (Навā’и). Был создан специальный Комитет по изучению и публикации его творчества, создавались словари к его произведениям. Именно к этой работе были привлечены ‘улама’, участие которых, однако, не шло дальше переписки произведений Навойи, каталогизации и краткого описания его произведений, составление словарей неясных терминов и т.п.[15]. Интерпретацией же его творчества и определением круга произведений, допущенных к печати, занимались преимущественно светские ученые (востоковеды, филологи) или именитые советские поэты (как Айбек), которые тоже могли оказаться в опале, если допускали в этой сложной работе «недопустимые перегибы» (как тогда формулировали в документах и газетных статьях)[16].
Из письменного наследия Навойи на долгое время был исключен религиозный компонент, а интерпретации его творчества так же выглядели искусственно, однако вполне соответствовали царившим идеологемам[17]. Позитивные определения в характеристиках фигур прошлого обязательно включали такие формулы-клише как «прогрессивные деятели», либо «материалистические взгляды» и т.п., которые давали пропуск знаменитым фигурам прошлого в плеяду исторически значимых фигур и даже национальных героев. Именно поэтому названия соответствующих книг и сборников статей тоже должны были включать приемлемые идеологические определения с соответствующими ссылками на «марксистские первоисточники». По сути, такие названия отвечали официальным идеологемам и одновременно, по задумке властей, формировали национальную историю и «социалистическую нацию»[18].
Позже (после Второй мировой войны) продолжался поиск «прогрессивных ученых прошлого», которых можно было без ущерба для официальной идеологии объявить наследием нации, и услуги ‘улама’ в этом смысле могли пригодиться. К 1950-м годам, помимо каталожной работы, они были привлечены к переводам сочинений знаменитых ученых Центральной Азии ал-Фараби, Ибн Сина, ал-Бируни и др. При этом имена домулла, участвовавших в переводах, включались в число авторов (см. нашу библиографию). Эти многолетние проекты и многотомные собрания, помимо несомненного научного значения, являлись для властей частью многоцелевой и сложной идеологической и политической программы властей, которая была поддержана, но по-своему интерпретирована известными востоковедами (см. выше мнение И.Ю. Крачковского).
Преимущество Узбекистана было в том, что основной фонд рукописей, составленных и переписанных в главных центрах книжной культуры региона (Бухара, Самарканд, Хива и др.) был сосредоточен в ИВ. И, как следствие, именно в этом институте происходило «научное освоение» этих ученых энциклопедистов, по заслугам прослывших в качестве ученых титанов региона. Однако именно сочинения этих ученых (по характеристике вполне подходящие под идеологему «Материалистические сочинения») переводились в рамках упомянутых обширных проектов ИВ АН Узбекистана.
В этой борьбе за ученых, как за «великих представителей нации», Узбекистан, повторяем, оказался в выигрышном положении. Основной фонд рукописей, связанных с их наследием, был сосредоточен в ИВ АН РУз, и поэтому ученые в Республике первыми приступили к изучению и даже освоению этого наследия. Кроме того, в регионе было мало ученых такого уровня и эрудиции, кто мог бы прочитать, понять и перевести эти сочинения. И дело здесь не только в атеистической политике Советской власти, в которой к 1950-м годам выросло новое поколение, оторванное от традиций прошлого и, получившее новое образование, так же ограниченное знанием основ языков и изрядно отдаленное от былой религиозной традиции. Проблема была так же и в самих богословах, которые были вовлечены в работу по переводам на узбекский язык сочинений ал-Бируни, Ибн Сина (Авиценны), ал-Хорезми, ал-Фаргани и др. Между тем, идеология этих ученых-энциклопедистов была больше связана с рационализмом (философией, му‘тазилитским каламом и пр.) и далека от суннитского догматизма, доминировавшей в богословской среде региона в последние несколько столетий. Общая стагнация и победа схоластики сыграли свою роль в ослаблении интереса к естественным наукам, которые оказались крайне слабо востребованными и практически прекратили свою эволюцию[19]. По этой причине ‘улама’ ИВ, получившие традиционное образование и затем вовлеченные в сферу советского востоковедения, специальными знаниями в области естественных наук не обладали. Например, домулла А. Расулов откровенно признавался, что полученных им религиозных знаний или в области литературы в рамках учебной программы в медресе и во время частных уроков, явно не хватало для работы над переводами сочинений названных ученых-энциклопедистов (см. ниже, в его краткой биографии). В этом можно усмотреть не столько ограниченность эрудиции всех поколений домулла ИВ, сколько собственно ограниченный характер схоластического и догматического образования в системе местных медресе и частного (так же преимущественно религиозного) образования.
Те специалисты ИВ, кто участвовал в переводах сочинений ученых-энциклопедистов и с кем мне когда-то приходилось говорить, вполне положительно отзывались об уровне знаний в арабском или персидском языках и литературе, которыми обладали те ‘улама’-востоковеды, кого привлекали к переводам названных сочинений[20]. Одновременно выдающиеся востоковеды со светским образованием сохраняли серьезный скепсис относительно знаний домулла специальных предметов, особенно, что касается математики, астрономии, геодезии, фармакологии, философии и даже истории[21]. Хотя такие же знания требовались и многим востоковедам, имевшим светское образование. По этой причине к переводам привлекались знаменитые советские медики, химики или математики (О. Файзуллаев, У. Каримов, А. Ахмедов и др.)[22]. Работа над названными проектами способствовала росту опыта и эрудиции всех ученых (в том числе и ‘улама’-востоковедов), кто был вовлечен в эту многолетнюю работу.
В фонде рукописей имелись такие фолианты, идентификацию и описание которых могли сделать преимущественно ‘улама’-востоковеды. Речь идет о религиозных сочинениях (фикх, тафсиры, калам и т.п.). Источником основательной эрудиции ‘улама’-востоковедов в этой области было не только и даже не столько их традиционное образование. Работа в библиотеках и хранилищах рукописей, и особенно в ИВ, открыла им возможности к значительному расширению своих знаний.
Однако не все их знания могли быть востребованы в полном объеме, особенно что касается религиозных сочинений. К тому же задачи советского востоковедения так же ограничивали сферу их использования, особенно на фоне практически полного отсутствия исламоведческих исследований. Кроме того, составив значительную по объему картотеку рукописей, никто из домулла (за исключением И. Одилова, включенного в число авторов первого тома) не был привлечен к составлению упомянутого выше каталога СВР, очевидно по той причине, что описание рукописей требовало специальных навыков, знания принципов каталогизации, выработанной европейскими библиографами. Тем более что к тому времени уже существовали знаменитые каталоги арабских и персидских рукописей, составленные в Европе (Рьё, Броккельманн и др.).
Авторы СВР (по крайней мере, первых 6-7 томов) могли опереться на уже выпущенные каталоги и даже вносить поправки в прежние описания, составленные ‘улама’ или исправлять допущенные ошибки в каталогах советских или европейских ученых. Кроме того, работа по каталогизации началась до создания ИВ и вовлечения в него ‘улама’, по инициативе А.Э. Шмидта и под его непосредственным руководством и при участии профессиональных востоковедов, работавших в Ташкенте[23] и которые имели серьезные знания о рукописной традиции и значительные навыки в их описаниях (СВР-1, Введение, с. 6-8). Из ‘улама’-востоковедов в то время в этой группе работали только И. Одилов и А. Носиров (до конца войны). Они были уникальными консультантами по рукописным сочинениям, написанным местными авторами и не попавшими в известные на то время каталоги. Тем не менее, составленная группой домулла картотека (карточки) рукописей, несмотря на ее некоторые недостатки[24], стала серьезным подспорьем для СВР.
«Случайно попавшие в научное учреждение»? Интриги против ‘улама’-востоковедов
Исследуя архивный материал, статьи (в основном популярного и информативного характера) или неопубликованные записки всех домулла, работавших в Институте востоковедения имени Абу Райхана ал-Бируни, мне удалось в той или иной степени восстановить их биографии (см. ниже). Кроме того, мне, как всем сотрудникам Института востоковедения ал-Бируни, обращающимся к рукописям, приходится часто использовать некоторые работы наших домулла (картотеку, переписанные и восстановленные ими книги, библиографические сведения, собранные в отдельные папки и пр.)[25], без которых трудно представить работу с рукописями ИВ. Естественно, поражает та огромная работа, которую они сделали, восхищает их трудолюбие и тщательность.
В процессе работы над этой статьей мне стало ясно, что для полноценной оценки статуса домулла в советском научном учреждении, всего этого недостаточно[26]. Краткие публикации о них, архивные документы или заполненные ими лично формуляры бюрократических бумаг и даже скромные авторские ремарки в переписанных ими рукописях тоже не могут полноценно воспроизвести той картины адаптации в сложную и нередко тревожную действительность научного учреждения сталинской эпохи.
Скупые отчеты первых нескольких лет существования Института (это военные и послевоенные годы) и его предшественника – отдела восточных рукописей Публичной библиотеки (см. иллюстр. №№), показывают, что учреждение занималось преимущественно каталогизацией и предварительным описанием рукописей (или, согласно отчетам того времени, «освоением»), их реставрацией, подготовкой переводов некоторых исторических сочинений[27]. Работу по каталогизации и в основном выполняли домулла, и эта работа была лишь косвенно связана с идеологическими проектами властей.
Позже, когда ИВ был вовлечен в упомянутые проекты по изучению и переводу сочинений ученых-энциклопедистов или исторических и литературных произведений, функции института расширились, а вместе с ними от домулла требовалось участие в этих многолетних проектах. Однако послевоенные годы изменили эти реалии. Это эпоха, когда активизировалась внешняя политика СССР, от научных учреждений вроде Института Востоковедения власти требовали экспертных оценок современного состояния Востока, особенно тех, на которые был направлен вектор внешней политики Советского Союза. В этом эмпирический опыт или знания ‘улама’-востоковедов едва ли могли пригодиться. Темы новых исследований носили исключительно идеологический характер (см. ниже), хотя квалифицировались как жизненно важные темы. По словам А.П. Каюмова, за пределами Института нашлись «специалисты» (себя они называли «принципиальными коммунистами»), кто настаивал на актуализации названного идеологического направления при одновременном отказе от услуг «благообразных старичков» (то есть домулла) и считал более важным сосредоточить исследования по современному Востоку.
Группу «принципиальных коммунистов» возглавлял А.В. Станишевский (1904-1994), член ВКП(б) с 1922 года, работник и осведомитель ОГПУ/ГПУ, авантюрист, путешественник и писатель[28]. В 1948 году он демобилизовался в звании подполковника, хотя остался на работе в политотделе Туркестанского военного округа (ТуркВО) и одновременно был принят в Правление Союза писателей Узбекистана[29]. Внутри ИВ соратником А. Станишевского был ученый секретарь Института (конец 1949 – начало 1951 гг., с перерывами) Александр Павлович Савицкий[30], который тоже был выпускником партийных курсов, не имея даже специальной языковой подготовки[31].
Директором Института по изучению восточных рукописей был упомянутый Вахид Захидов (1947-1950)[32], который, обладая светским образованием (историк, филолог), старался принять на работу молодых выпускников Факультета востоковедения Среднеазиатского государственного университета (то есть обладателей светского востоковедного образования) и избавиться от сотрудников, вроде А. Савицкого. Предлагаемые В. Захидовым направление исследований (т.е. ориентированное на изучение рукописного наследия и «национальной истории»), были уязвимы для обычной тогда критики, облекавшейся в формулы, вроде «узконациональные интересы», «отсталые от жизни исследования» и т.п. Ситуацией, в первую очередь, воспользовался и А.П. Савицкий, поддержанный А.В. Станишевским и М.И. Шевердиным (1899-1984).[33] В октябре 1949 г. он обратился с письмом в республиканскую Академию наук (копия послана в ЦК компартии Узбекистана),[34] в котором содержались обвинения в адрес Института, проводящего, по его словам, неактуальные исследования, «сотрудники которого погрязли в бесконечном перелистывании пожелтевших листов рукописей», «в исследованиях, не отвечающих жгучим требованиям времени» и т.п. Досталось и «старейшим ученым» (домулла) Института, которых квалифицировали как людей, «случайно попавших в научное учреждение», «политически неблагонадежных». Авторы письма заявили «бывшие кадии, муфтии и муллы с религиозным мышлением, недопустимым в советском научном учреждении, вдруг и непонятно, каким образом попали в стены Института». В заключении письма в «удручающем положении Института» был обвинен В. Захидов, которому в вину ставилось так же нежелание видеть «связи передовых русских ученых с прогрессивными деятелями Средней Азии»[35].
Для самого Савицкого и его соратников донос имел прагматический смысл. Многие люди «революционного поколения» использовали инструмент доносительства как эффективный способ для карьерного роста. По словам А. Каюмова, основной целью доноса оставался директор Института, которым, как полагали Станишевский и Ко, должен был быть русский человек.
Все эти обвинения были беспочвенны, однако позже опубликованы в газете ЦК ВКП(б) «Правда», что, по условиям того времени, было равносильно судебному обвинению (см.ниже).
ЦК КП(б) Узбекистана и Академия наук среагировали на это письмо. Было проведено специальное заседание, решение которого было направлено в Академию и Институт по изучению восточных рукописей (1/IX 1950 г. «О работе АН Уз ССР»). Согласно этому решению, Академия наук отстранила директора В. Захидова, который был переведен начальником отдела, а директорский пост заняла молодая выпускница аспирантуры Ленинградского Института востоковедения, кандидат наук С.А. Азимджанова (директор в 1950-1976 гг.). Новая директриса оказалась достаточно дипломатичной, хотя ей не удалось полностью погасить внутренний конфликт и внешние нападки на Институт. Тем не менее, она продолжила работу В. Захидова (пользуясь его же советами), правда, пытаясь расширить «Отдел по изучению стран сопредельного Востока» (руководимый бывшим разведчиком, подполковником в отставке М.Г. Пикулиным). Тогда же Институт решением упомянутого Х пленума ЦК КП(б) Узбекистана от 1/IX 1950 г.[36] был переименован в Институт востоковедения АН Уз ССР, чем было окончательно закреплено основное направление его исследований – история и современное состояние стран Востока, связь с которыми рассматривались советским правительством в контексте собственных дипломатических, стратегических и идеологических интересов[37].
Таким образом, письмо и написанная на ее основе статья (о ней см. ниже) изменили стиль работы ИВ, в котором теперь доминировали «исследования Зарубежного Востока», правда, сформулированные в обычном для того времени идеологическом стиле. В одной из докладных записок ИВ [в ответ на упомянутое решение ЦК ВКП(б) Узбекистана] перечислены мероприятия, «направленные на улучшение работы Института», в том числе по исследованию «современной истории зарубежного Востока». Основная проблема для налаживания работы в этом направлении заключалась в отсутствии подготовленных специалистов. Директор С. Азимджанова объяснила, что ее обращение в ряд организаций (в т.ч. в московский ИВ, другие инстанции) не увенчались успехом. В списке тех, к кому обращалась дирекция ИВ и Академия наук, приглашая на работу, был Штаб Туркестанского военного округа (ТуркВО). У военных просили «командировать ряд товарищей» на работу в ИВ, в том числе «т[оварища] Станишевского»[38]. Однако А. Станишевский перейти на работу в ИВ отказался [39], хотя стал членом Ученого совета и не раз участвовал в его работе[40]. Более того, он был назначен редактором изданий ряда переводов исторических сочинений[41], хотя не имел специальной языковой подготовки. Правда, все издания, где он по протоколам был назначен редактором, вышли уже после смерти Сталина, и имя Станишевского в этих изданиях уже не фигурирует. Эти назначения выглядели своеобразным дипломатическим жестом, чтобы умерить агрессию доносчиков.
Однако до оттепели Хрущева было еще время и с «группой Станишевского» (как ее, по словам А. Каюмова, назвали сотрудники ИВ) приходилось считаться. Доказав собственную значимость, Станишевский и Ко настойчиво требуют внести «боевой дух» в работу Института, генерируют идеи по «новым и актуальным направлениям», одновременно настаивая, чтобы молодым аспирантам давали «более современные и боевые темы», имея в виду изучение классовой борьбы на Востоке, «разоблачение англо-американского империализма» и тому подобные идеологические штампы того времени. Приведу небольшую цитату одного из протоколов заседания Ученого совета ИВ:
«Т[оварищ] Станишевский определяет работу Института как не имеющую явно выраженного лица, аморфную и высказывает необходимость установления четкого, активного наступательного лица Иститута»; «Т[оварищ] Айбек соглашается с т. Станишевским и выдвигает необходимость установления усиления работы отдела Зарубежных стран Востока и необходимость разработки современных, боевых тем Востока»[42].
Как начало действительной актуализации работы «на новом направлении» было предложено провести конференцию с символичным названием: «Панисламизм как реакционное оружие в руках американо-английского империализма», на котором Станишевский должен был прочитать доклад: «Пантюркизм на службе империалистов». Он так же предлагает, чтобы конференция «носила боевой политический характер» (здесь и выше выделено мной – Б.Б.)[43]. Судя по впечатлениям покойного К. Мунирова (сотрудник ИВ в 1950-2007 гг.), участвовавшего на этом же собрании, А. Станишевский в озвученном проекте доклада заявил, что пантюркизм и панисламизм еще живы внутри социалистических республик Средней Азии и Кавказа. В этом же отчете по подготовке доклада Станишевский открыто заявил, что Институт востоковедения должен стать «форпостом в этой борьбе против внутреннего пантюркизма и панисламизма», хотя вместо этого «пригрел в своих стенах» бывших кадиев и мулл.
Эта речь стала тревожным сигналом, так как все участники «большой драмы» были осведомлены о сохранившейся связи Станишевского с ГПУ. В результате, многие из домулла Института были уволены, либо понижены в должности, что видно по записям в штатном расписании того времени, «Докладной записке ИВ» в АН Уз ССР и по другим документам. Речь идет о реакции на специальное Решение бюро ЦК КП(б) Узбекистана (от 14/IХ 1951 г., «О мерах по улучшению работы ИВ АН Уз ССР»), которое было направлено в ИВ и по нему были предпринята довольно кардинальная реструктуризация ИВ, с отстранением от работы домулла, которые были обвинены в «политической неблагонадежности». В ИВ были оставлены только два отдела: «Отдел новой и новейшей (т.е. современной – Б.Б.) истории стран зарубежного Востока» и «Отдел восточных рукописей». Другой отдел («Общественной и философской мысли народов Узбекистана»), занимавшийся переводами сочинений ал-Бируни, Ибн Сина (Авиценны), исторических сочинений и др., был передан Институту Истории и археологии (директор Р.Н. Набиев). В решениях бюро Компартии и Академии сформулирована новая задача ИВ: «… главным направляющим в деятельности Института (востоковедения АН Уз ССР) является изучение и научное обобщение важнейших событий в странах зарубежного Востока, разоблачение происков англо-американского империализма и человеконенавистнических теорий панисламизма, пантюркизма, панарабизма, а так же изучение языков, этнографии народов Востока» (имелся в виду «зарубежный Восток»)[44]. В этой же «Докладной записке» домулла (М. Абдурахманов, А. Насыров) были уволены, как «лица, не внушающие политического доверия», другие (А. Расулев, Э. Мухаммадходжаев) переведены на должности лаборантов[45].
Таким образом, С. Азимджанова вынуждена была уволить или понизить в должности некоторых из «старейших ученых», правда на время; вскоре они вновь были возвращены, так как работа по каталогизации, переписке и реставрации рукописей остановилась.
Усилия С. Азимджановой вновь вернуть домулла в Институт и продолжить организацию работ по истории и текстологии[46] вызвали отрицательную реакцию Савицкого и его соратников. Почти год спустя после упомянутого письма и через несколько месяцев после упомянутого решения ЦК КП(б) Узбекистана по Инстиутуту, почти все обвинения, приведенные в упомянутом письме-доносе, были вновь публично озвучены, но на этот раз в статье А. Шмакова (протеже М.И. Шевердина) с провокационным названием «Институт, оторванный от жизни» («Правда», 16 августа, 1951 г.; «Правда Востока» 17 августа, 1951 г. См. фото …). При сравнении текстов упомянутого письма-доноса и статьи, становится ясным, что Шмаков использовал письмо А. Савицкого[47]. Правда, на этот раз обвинения были более жесткими и особенно страшными для тех «обвиняемых», чьи имена попали в статью[48]. Автор начал статью с критики в духе времени, сравнивая ИВ с медресе, в котором он увидел не дежурный портрет Сталина, а зарисовку медресе Мири Араб (Бухара). Из сотрудников он обратил внимание на «благообразных стариков», которые, якобы «в определенный час отвлекаются от бумаг и … совершают молитву»[49]. В их анкетах автор будто бы нашел сведения, что они были имамами, муфтиями, муллами и кадиями[50]. Работу по каталогизации Шмаков счел непродуктивной, переводы сочинений – бесполезными и т.п. На этом фоне снова прозвучали обвинения о том, что ИВ «далек от жгучих проблем современности» (см. выше). Сотрудникам вновь предъявлен упрек за то, что они не изучают материалы, хранящиеся в Институте, которые «разоблачают туркестанских джадидов – врагов узбекского народа, вскрывающие их связи с английскими и японскими империалистами», продолжают работать над словарем Махмуда Кашгари[51] и т.п.
Примерно такими же формулировками, как и в вышеупомянутом письме «принципиальных коммунистов», Институт обвиняется за игнорирование «актуальной темы разоблачение панисламизма и пантюркизма» и т.п. В целом оценка работы Института в статье не профессиональна даже по меркам того времени, явно имела те же цели, что вышеупомянутое письмо, тем более что текст последнего послужил основой для статьи. Статья только однажды была обсуждена в Академии и по ней была приготовлена очередная «Докладная записка» в ЦК КП(б) Узбекистана в том смысле, что не все факты, изложенные в статье подтверждены и что большая их часть запоздала, так как соответствующие перемены в ИВ уже состоялись[52].
После упомянутых заседаний и решений в высоких инстанциях, в ИВ так же было проведено заседание Ученого совета, на котором в повестку дня было включено «Обсуждение решения Президиума АН Уз ССР в связи со статьей ‘Институт, оторванный от жизни’». Примечательно, что обсуждение прошло формально, и на него не пригласили Станишевского; А. Савицкий к этому времени был переведен на партийную работу в г. Нукус[53]. Как видно из протокола, этот вопрос не был единственным в повестке дня заседания Ученого совета ИВ и занял всего полстраницы из 6 страниц протокола. Собственно фразы этой части протокола (вроде «Институт сделал правильные выводы …») очевидно демонстрируют формальный политизированный ритуал «самокритики», который избавляет покаявшегося от более жестких последствий.
Это было не последнее, но самое крупное потрясение, связанное с нападками на домулла. Уже в середине 1950-х годов С. Азимджановой удалось большую часть прежних сотрудников восстановить на работе, а позже добиться присвоения некоторым из них научных званий без защиты (см. ниже).
Итак, ИВ, созданный как обычное «второразрядное научное учреждение» для хранения и изучения рукописей, не мог остаться в стороне от тотальной идеологизации и политизации, которые стали обычными спутниками практически всех гуманитарных учебных и научных учреждений той эпохи. Новое направление, которое требовали актуализировать партийные органы в исследованиях ИВ, было действительно важным для Советского Союза, если иметь в виду активную внешнюю политику страны, особенно в странах зарубежного Востока, будущее которого было небезразлично двум мировым системам. Носители этих систем в той или иной степени идеологизировали свою внешнюю политику.
Однако в ИВ актуализация темы «Зарубежного Востока» прошла под знаком упомянутого доноса и написанной на его основе статьи. Условия в бывшем СССР порождали обычный продукт эпохи – доносчиков, легитимирующих свой статус обычным определением советского времени – «принципиальные коммунисты». Во всяком случае, «группе Станишевского» удалось придать переменам статуса ИВ не столько внешнеполитическую актуальность, сколько преимущественно идеологический вектор, что, впрочем, было обычным в советском взгляде на внешний мир. Однако «принципиальные коммунисты» (среди них бывшие сотрудники ГПУ или НКВД) продолжали искать не только внешних, но и внутренних врагов Советской власти. В этом смысле самыми уязвимыми сотрудниками оказались домулла, которых классифицировали обычными для того времени штампами как «политически неблагонадежные». По мнению А. Каюмова, единственное, что уберегло домулла и ИВ от обычного для того времени расследования, это «принципиальные решения и самокритика», которые принимались на самом высоком уровне (ЦК компартии и Академия).
Пройденный урок и чувствительные удары «идеологической плеткой» надолго запомнились домулла. После возвращения в ИВ (примерно через год-два), или работая в других учреждениях, они старались быть очень осторожными и всячески пытались адаптироваться к новым условиям, оставаясь, однако, замкнутыми и предельно корректными даже в более благоприятные времена после эпохи Сталина. Хотя стиль своего мышления (далеко не советский), который сразу угадывается в их публикациях и заметках, они изменить не смогли и, очевидно, просто не захотели.
На протяжении всей последующей научной карьеры домулла Института востоковедения избегали конфликтов с идеологией системы. Хотя уже в после сталинский период прежние идеологемы и собственно идеологизированные ритуалы претерпели известную «стандартизацию», как это заметил А. Юрчак[54], и не были столь строго обязательны, по крайней мере, в личной жизни.
По словам А. Каюмова, нападки на домулла еще продолжались в начале хрущевской эпохи. Но это было время, когда власти уже отказались от тотальных репрессий и чтобы проявлять лояльность режиму, совсем не обязательно было доносить, или искать «врагов народа» в окружающей среде. По крайней мере, доносительство уже не имело тех последствий для потенциальных жертв, какие были обычным делом при Сталине.
«Вам можно присвоить любую научную степень без защиты»[55].
Диссертации и публикации домулла
Первую часть названия настоящего раздела, взятую в кавычки, неоднократно повторяла в своих воспоминаниях упомянутая директор Института востоковедения Сабохат А. Азимджанова (ум. в 2001). С такими словами она обычно обращалась к большинству домулла Института, резюмируя свой неподдельный пиетет к их эрудиции. Она часто повторяла, что готова была присвоить ученую степень всем домулла, однако добавляла: «если бы такое решение зависело только от меня лично»[56]. Сабохат Азимджановна, в частности, имела в виду основное условие процедуры защиты или присвоения научной степени без защиты диссертации, то есть наличие диплома советского высшего учебного заведения (ВУЗа). Обойти это условие было крайне сложно. Кажется, первый случай присвоения высокой научной степени при выполнении лишь некоторых формальностей был связан со знаменитым археологом М.Е. Массоном (академик АН Туркменской ССР), которому было присвоена ученая степень «доктора археологии» без защиты[57].
Сложнее было с теми домулла, кто не имел высшего светского образования, хотя участвовал в переводах сложных текстов названных выше ученых-энциклопедистов (ал-Фараби, ал-Бируни и др.), исторических сочинений и т.д. Однако, как сказано, их переводы различных сочинений не отвечали принятым в советском востоковедении стандартам и представляли собой переложение арабского или персидского текстов на архаичный узбекский (чагатайский) язык, трудно понимаемый даже специалистами. Кроме того, написанием необходимых научных комментариев, примечаний, пояснений, введений и пр. занимались соавторы домулла, обладавшие специальным светским (история, философия, математика и др.), либо востоковедным образованием. Между тем, перевод без необходимых комментариев, библиографии, введения и прочего оставался ненаучным, и представить его к защите так сказать, в чистом виде, не представлялось возможным. Тем не менее, прецеденты присвоения ученой степени домулла за участие в переводах в стенах ИВ имени ал-Бируни были, и они достойны внимания как уникальные образцы постсталинских перемен в идеологии и нового отношения к религиозному образованию.
Первым из домулла Института востоковедения, кому удалось защитить диссертацию, стал Содик Мирзаев (1948 г.). Однако его случай был негласно признан «особым», поскольку долгое время он преподавал в светских учебных заведениях, и параллельно работал в качестве научного сотрудника в ряде советских научных учреждений (см. его краткую биографию). Тем более он подчеркнуто держался в стороне от домулла, подчеркивая свою секулярность.
Однако в истории ИВ были более показательные случаи. Одним из тех, кто получил степень кандидата наук (1962) без защиты диссертации, оказался Абдулфаттох Расулов (Ирисов, 54). За участие в узбекских переводах произведений ал-Фараби, Ибн Сина, ал-Бируни и других сочинений Расулев был награжден государственными премиями (отмечены в «Личном листке» Расулева). По инициативе С. Азимджановой, А. Расулев подал прошение в Академию с просьбой представить ему ученую степень кандидата филологии без защиты диссертации по совокупности выполненных работ. После долгой «бумажной истории» и бюрократических проволочек, представленные документы (в том числе рекомендации многих ученых[58]) были отправлены в Москву, откуда вскоре пришло подтверждение решения ученого совета о выдаче диплома кандидата филологических наук А. Расулеву[59].
Прецедент показал лояльность Союзной ВАК (как тогда называли Высшую аттестационную комиссию по присуждению ученых степеней и званий [ВАК], расположенную в Москве), а значит и государства к обладателям религиозного образования в научной сфере. Прежние опасения были преодолены и домулла получили прецедент нового (более лояльного) отношения к их статусу. Вслед за Расулевым, кандидатские диссертации без особых осложнений защитили А. Джуванмардиев (1963), А. Муродов (1971), С. Муталибов (1972) и другие.
Интересен и другой факт, связанный с едва ли не самым основным требованием к претендентам на ученое звание. Им необходимо было представить диплом о высшем образовании. В случае домулла, кто претендовал на защиту, потребовались бумажные свидетельства об окончании религиозного учебного учреждения, которое могло бы квалифицироваться как «высшее учебное заведение». По тогдашним правилам (60–80-е годы прошлого века) к «высшему учебному заведению» было приравнено медресе. В «Личных листках» сотрудников из домулла в графе «Образование» в те годы появилась новое определение: «Медресе (высшее учебное заведение старого/специального типа)», либо: «Высшее (старого типа»)[60]. Эти формулы в графе «Образование» заменили старые, которые коротко обозначались как «духовное» (вариант – «духовническое»), либо «медресе (религиозное)», каковые определения носили скорее, отрицательный оттенок (см. фото…). Такая перемена после смерти Сталина означала, что отношение к религиозному образованию (тем более к дореволюционному) квалифицировалось, скорее, положительно, имея в виду специфику области науки и знания, то есть работу со средневековыми рукописями и соответствующими темами. Кроме того, в следующей графе «Личного листка» (после «Образование») имелась графа «Специальность». Здесь во все времена домулла писали обычно «арабский, персидский языки», не указывая других предметов, основных в медресе. В 60–80-е годы прошлого века этот пункт в «Личных листках» так же был изменен на: «Филология (арабский и персидский языки)»[61].
Однако по старой традиции в медресе не выдавались специальные «дипломы», что стало еще одним препятствием на пути к вожделенному диплому кандидата наук. Чтобы доказать наличие высшего духовного образования, домулла Расулеву пришлось собирать свидетельства своих однокурсников по медресе[62]. Очевидно, что претенденту на научное звание приходилось доказывать собственное «высшее теологическое» образование.
Несмотря на доказанное наличие «высшего духовного образования», претенденты на научную степень из домулла не могли обойти другое требование к советским работам – наличие ссылок на труды «классиков марксизма-ленинизма» и документы форумов Компартии. В случае отсутствия сносок на такого рода работы и партийные документы, шансов на успешную защиту и утверждение диссертации всесоюзной Высшей аттестационной комиссией было мало. Однако в большинстве случаев (уже начиная с 1970-х гг.) такие ссылки приобретали вид идеологических декораций в диссертациях и публикациях многих ученых, если, конечно, работа не носила специальный характер, связанный с дежурными темами о роли Компартии в каких-то глобальных событиях. Сложнее было с публикациями в области востоковедения. Здесь ссылки на партийные документы, речи партийных лидеров и «классиков марксизма-ленинизма» тоже оказывались формальными и иногда появлялись в виде обычных на то время реверансов «партии и правительству», как это не раз вынужден был делать А. Расулев (см. в его краткой биографии).
Еще более показателен в этом смысле пример домулла А. Муродова, который тоже защитил диссертацию по теме: «Из истории искусства каллиграфии Средней Азии» (1967). Несколько лет спустя он опубликовал книгу под тем же названием на узбекском языке (Ўрта Осиё хаттотлик тарихидан). По словам покойного П.Г. Булгакова, в первоначальном варианте диссертации (и, соответственно, книги) автор следовал традициям средневековых биографических словарей (типа тазкира), что было заметно даже в языке изложения. Это, конечно, было далеко от предъявляемых научным работам требований. После первого обсуждения в Отделе рукописного наследия ИВ, решено было передать представленную работу А. Муродова на стилистическую редакцию и по возможности привести в соответствие стилю монографических исследований советского востоковедения, поскольку работа в представленном виде не соответствовала принятым стандартам. Эту работу выполнил А. Урунбаев, который сам много лет пользовался консультациями А. Муродова. Однако сильно изменить диссертацию и книгу не удалось, и поэтому по стилю языка и структуре обе работы обрели, так сказать, эклектический вид, то есть оказались чем-то вроде осовремененных биографических словарей типа «тазкира». Еще более забавным оказалось то обстоятельство, что в списке использованной литературы (сс. 196-197 книги) указаны работы К. Маркса и Ф. Энгельса «Об искусстве» (Москва, 1937), русский и узбекский варианты статьи В.И. Ленина «О литературе и искусстве» (Москва, 1957; Ташкент, 1958). Однако в самой работе А. Муродова они не использованы и ссылок на них нет. Очевидно в этом случае мы так же имеем дело с необходимой «идеологической декорацией», без которой диссертационные работы и монографии к защите и публикации не допускались.
Таким образом, домулла в советском/узбекском востоковедении прошли сложный путь. Привлеченные поначалу к работе с рукописями, уже в конце сталинской эпохи они оказались жертвами неприязненного к себе отношения и сполна ощутили все особенности религиозной и идеологической политики большевиков. Затем, со сменой эпохи, когда отношение к выпускникам «медресе старого типа» стало лояльным, а их профессиональный статус и образование в исследованиях рукописной традиции фактически были приравнены к обладателям высшего светского образования («востоковедам»), домулла оказались счастливыми исключениями либерализации советской идеологии. Их диссертации стали своеобразными пропусками в советское востоковедение и советскую же историческую науку. Однако это не означало, что все из них научились писать в стиле и по методу, принятом в советском востоковедении или истории. К сожалению, теперь уже не восстановить полной картины их способа адаптации и причин отказа от полной ассимиляции.
Джадиды в узбекском востоковедении
Кроме домулла (‘улама’), особый статус в востоковедении и исторической науке Узбекистана занимали бывшие реформаторы (джадиды). Сотрудники Института так же причисляли их к домулла, поскольку они имели традиционное религиозное образование. Правда, они попали в Институт довольно поздно, уже после смерти Сталина, поскольку большая их часть оказалась в числе репрессированных режимом.
Известно, что как особое религиозное, социальное и политическое движение джадиды начинали с попыток изменить способ образования, сопровождая свою деятельность критикой богословов консервативного направления[63]. Кроме того, сами реформаторы были неоднообразными. Одни из них придерживались более умеренных взглядов в отношении форм и пределов модернизации уммы (не расставаясь собственно с религией и ратовали лишь за упрощение ритуалов); они относили себя к «правому крылу» джадидизма. Другие («левое крыло») отстаивали более глубокие социальные, политические и технологические перемены в обществе и оказались на одной политической и идеологической платформе с социалистами и затем с большевиками. Путь левых джадидов был достаточно символичным: от реформации религии к ее отрицанию[64].
Еще в начале Советской власти многие из джадидов увлекались историей, успели оставить интересные работы с использованием местных источников или документов[65]. Одним из первых реформаторов правого крыла джадидов, кто оказался затем в числе сотрудников Института по изучению восточных рукописей, был Ибодулло Одилов. Правда, он подчеркнуто отрицал свою принадлежность к джадидам (особенно после репрессий против них), хотя долгое время поддерживал связь с теми из них, кто удачно ассимилировался в реалии советского режима, прежде всего, с Садриддином Айни (см. в краткой биографии И. Одилова).
Из числа леворадикальных джадидов, кто оказался сотрудником ИВ АН Узбекистана, был Лазиз Азиззода (Азиз-заде). Его первоначальное образование, естественно, было религиозным, а его дед был известен как профессиональный каллиграф (см. ниже в его биографии). Первые годы власти большевиков, Азиззода активно участвует в акциях новой власти, сделав затем приличную по тем временам карьеру. Он был близок со многими революционерами из джадидов, и позже стал позиционировать свою идеологию именно как джадидскую. Однако это обстоятельство сыграло крайне негативную роль в его жизни. Его арест (1927 г.) по «делу джадидов» прервал его карьеру.
Возврат Азиззода из тюрьмы произошел почти через 25 лет. Реабилитацию он (подобно многим его бывшим соратникам, кто остался в живых) воспринял как восстановление «революционной справедливости» и даже как личный триумф. Однако комплексы «незаслуженного преследования» остались надолго. И Азиззода, и Джуванмардиев всегда старались подчеркнуть личную значимость «в победе революции», «защите революционных завоеваний», и позиционировали себя как персоны, стоявшие «у истоков революционного дела и победы социализма»[66].
Формально Азиззода состоял в отделе обработки рукописей, в той или иной степени принимая участие в работе над рукописями. Тем не менее, основное время тратил на составление записок и воспоминаний о своих былых соратниках по революционным преобразованиям в Туркестане.
Во всяком случае, Азиззода вполне серьезно относился к своему статусу советского партийного деятеля со стажем, внесшего значительный вклад в победу и становление социализма в Средней Азии, и потому полагал, что более чем заслужил того, чтобы церемония его погребения должна была пройти в стиле официальных советских похорон знаменитых личностей[67].
Похожий путь прошел Джуванмардиев Абдулладжан (1892-1979). Он родился в Коканде, где получил традиционное образование. Затем сошелся с местными джадидами и принял активное участие в масштабном проекте раннего советского времени по ликвидации безграмотности. В своей автобиографии он подчеркивает тот факт, что участвовал в «борьбе против басмачества», много сделал для укрепления Советской власти в Туркестане и затем в Узбекистане (см. его краткую биографию в приложении).
С момента работы в Институте он активно приступил к работе над разного рода документами по земельным и водораспределительным вопросам. Интересно, что перед защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, диплом А. Джуванмардиева об окончании юридических курсов не был признан достаточным для статуса «востоковеда». Как многие другие его коллеги из домулла, он предъявляет справку об окончании медресе (см. в приложении) и указывает приобретенную в нем специальность – филолог-арабист, юрист. Такая формальность (то есть признание «духовного образования») показала, что домулла обрели, наконец, статус «грамотных востоковедов», наряду со своими коллегами в Институте, кто закончил Восточный факультет университета.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Еще до того, как я приступил к работе над этой статьей, под впечатлениями некоторых рассказов моих старших коллег, мне казалось, что группа домулла в советском научном учреждении, несмотря на прессинг, оставались образцом верности старым этическим нормам и даже примером архаичности, сохранившейся под видом внешней «советизации». Это вполне подтверждали их фотографии, с которых на зрителя смотрят серьезные «старорежимные лица». Тем более, что я не раз слышал разные рассказы о том, что в личной жизни и приверженности к религиозной обрядности большинство домулла не сильно менялись. В суровые сталинские времена, они продолжали исполнять предписанную религиозную практику, хотя преимущественно молились в собственных домах. После смерти Сталина, когда религиозность не рассматривалась как уголовное преступление, большая часть домулла ИВ посещали несколько мечетей (в системе САДУМ) Ташкента, особенно в пятничные дни и во время молитв на мусульманские праздники (‘ид ал-курбан и ‘ид ал-фитр). Такие рассказы внушали мысль о том, что круг домулла в ИВ был каким-то особенным и очень архаичным мирком.
Позже, когда мне пришлось ближе знакомиться с их работами, записками, публикациями, сравнивать разнообразные интервью о них людей, кто близко знал их, я начал понимать, что даже такая локальная и небольшая среда ‘улама’-востоковедов не гомогенна, в той или иной степени подвержена влиянию советского стиля жизни, риторики и мышления.
Оказалось, что знания, эрудиция и навыки домулла тоже не были исключительными, по крайней мере, едва ли могли быть достаточными для составления и публикации полноценного каталога имеющихся рукописей ИВ. Символично, что к этой работе в свое время был привлечен только И. Одилов. В составлении же первых 7-8 томов упомянутого знаменитого каталога (СВР) непосредственное участие приняли русские (затем советские) и узбекские востоковеды с светским образованием, которые, тем не менее, опирались на картотеку, составленную домулла.
Примерно то же можно сказать и об их переводческой деятельности. Как сказано, большинство из домулла не обладали требуемыми знаниями в тех разделах наук (математика, астрономия, тригонометрия, медицина и др.), которые были необходимы для перевода сложнейших сочинений средневековых ученых-энциклопедистов (исключением был С. Мирзоев). У домулла так же не было необходимых навыков по изданию источников, их академическому переводу с комментариями; они не знали даже правил сносок на литературу, что видно по тем публикациям (книгам, статьям[68]) и запискам, которые они оставили. Знания европейской литературы (в первую очередь востоковедной) тоже было весьма ограниченным. О знании теоретического языка советских исследований вовсе не приходится говорить.
По большому счету, освоить язык советской истории и советского востоковедения, скажем 50-х годов ХХ века, в качестве методологического инструмента не удалось многим востоковедам Ташкента, получившими советское образование. Среди них можно назвать таких знаменитостей как У. Каримова, А. Урунбаева и многих других. Возможно по этой причине (видя очевидные противоречия и нонсенс большинства догм провинциального марксизма), такие ученые ограничили свою деятельность исключительно проблемами источниковедения, текстологии и переводами.
Возвращаясь к домулла, замечу, что в критический момент, когда их присутствие в Институте было под угрозой, оказалось, что именно они лучше всего и полноценно выполняют работу с введением в картотеку рукописей и литографированных изданий фонда. В дальнейшем некоторые из них смогли доказать, что способны поучаствовать в обширной переводческой и издательской деятельности Института. Таким образом, не сумев (а чаще просто не пожелав) ассимилироваться с новыми идеологическими и социальными реалиями, домулла, тем не менее, проявили хорошую способность к адаптациям.
Приспособление группы сотрудников с богословским образованием к условиям нового режима и советского научного учреждения, носившего статус «политически и идеологически важного института»[69], было разнообразным и зависело от множества обстоятельств. Едва ли можно говорить, что их адаптация воплощалась одинаково. Восприятие целей режима, судя по их работам, так же было своеобразным. Одни из них адаптировались с явной неохотой, другие пытались отыскать в советской действительности позитивные стороны, превращаясь иногда из объектов перемен в их субъекты. Самые яркие примеры в последнем случае – Л. Азиззода, А. Джуванмардиев, всегда подчеркивающие свою связь с идеями революции и становления Советской власти в Туркестане. Они почти полностью порвали с прошлым, остались верны советским идеалам даже после того, как оба оказались жертвами репрессий и многолетней ссылки. Интересно, что после этого они не только не разочаровались в социализме. Напротив, оба сознательно конструируют свое советское «я» и подчеркивают его в своих автобиографиях, во всех своих публикациях, в которых помещают себя рядом со своими героями («пламенными революционерами»). Как удачно заметил Йохан Хельбек (Hellbeck), такие личности сознательно персонализировались в рамках советской идеологической доктрины, помещая в нее свое «я»[70]. Это наблюдение вполне можно приложить к Л. Азиззода или А. Джуванмардиеву.
Другие (как Расулев) в своих работах часто публично выражали дежурную благодарность «партии и правительству» за созданные условия работы. В этих политических реверансах можно усмотреть отголоски серьезной психологической травмы, ставшей результатом нападок конца сороковых и начала пятидесятых годов прошлого века, когда над большинством домулла нависла угроза увольнения с обычной формулой «политической неблагонадежности». С тех пор домулла старались демонстрировать свою политическую лояльность либо ограничивались полным невмешательством во внутренние дела Института, совершенно поглощаясь порученным делом (или как тогда говорили, «работать, не поднимая головы от рукописи»). Это был вид самозащиты и, возможно, отвлечения от навязанной им действительности[71]. Другой вид самозащиты обретал забавный вид. При необходимости домулла украшали свои публикации неуместными идеологическими декорациями, так же состоящими из горячих благодарностей партии и правительству, или формальных ссылок на «классиков марксизма» в публикациях и диссертациях[72].
Во всяком случае, перемены и новые штампы официальной идеологии не могли обойти стороной домулла ИВ, даже тех, кто скрыто сопротивлялся ассимиляции. С того момента, когда статус этого учреждения не ограничивался научной (кабинетной) работой, а официально интерпретировался в качестве «идеологического форпоста Востока» (как тогда формулировали в советских газетах), ‘улама’-востоковеды долгое время рассматривались официальными и добровольными идеологами власти как нечто политически чуждое. Это очень напоминает статус «буржуазных специалистов», которых Советская власть была вынуждена привлечь для восстановления экономики, и затем отказалась от их услуг. Те же из «старых специалистов», кто не проявлял желания адаптироваться под идеологические требования режима, были отстранены от работы (в лучшем случае), либо привлекались к уголовной ответственности по знаменитой 58-й статье Уголовного кодекса (обвинение в саботаже с хорошо знакомой классификацией «враг народа»).
Впрочем, домулла Отдела восточных рукописей Публичной библиотеки (предтечи ИВ) смогли избежать репрессий. После того, когда в конце 30-х годов ХХ века начались чистки среди востоковедов (был арестован А. Шмидт, были сосланы А. Семенов, А. Молчанов и др.), грозное НКВД не тронуло домулла. Из них А. Носиров полагал, что ему в известной мере повезло, и он отсидел на выселках только три года (см. его краткую биографию). То что ему или И. Одилову удалось избежать преследований он объяснял это тем, что основными жертвами репрессий среди востоковедов Узбекистана стали в большей степени те, кто имел какой-нибудь общественный статус и «был слишком заметен» (nufuzli va martabasi balandroqlari). Кажется, что это достаточно резонное, но не полное объяснение логики репрессий, которые в действительности по серьезному достигли ИВ только в конце эпохи Сталина, и потому обошлись без тотальных ЧИСТОК И жертв, когда можно было позволить себе ограничиться формальной (бумажной) самокритикой (как это видно по протоколам ИВ), а «чистки рядов» сделать временными. Главными защитниками домулла оказалась молодая директор ИВ Сабохат Азимджанова, а так же группа сотрудников и членов Ученого совета (А. Семенов, В. Захидов, знаменитый писатель Г. Гулом и др.), кто понимал истинное значение и важность работы этих скромных тружеников.
Другим важным и далеко идущим результатом советской оптимизации и реконструкции Института исследований восточных рукописей стала переориентация его деятельности и, следовательно, изменение его названия на «Институт востоковедения», что важно было бы оценить в контексте идеологии советского востоковедения тех лет. Уже первое название Института следовало русским или имперским традициям. Название «Институт по изучению восточных рукописей» вполне укладывалось в рамки академического ориентализма, традицию которого отстаивал такой видный арабист как И.Ю. Крачковский, пытаясь кратко определить его функции в рамках «культурного строительства» (см. выше). Название нового института было идеологически приемлемым, чем, казалось бы, более точные названия, вроде «Институт мусульманского рукописного наследия». Судя по отчетам проделанных работ, сотрудники Института в первые годы его существования (прежде всего домулла) выполняли преимущественно именно эту функцию, то есть изучали рукописное наследие мусульманских авторов, составляли картотеки их сочинений, делали переводы и т.п.
Позже (во второй половине 40-х годов) тихая и почти незаметная жизнь Института по изучению рукописей закончилась. Он был вовлечен в более масштабные проекты (научные по форме, но идеологические по сути[73]), основной целью которых было изучение и перевод произведений названных выше ученых-энциклопедистов, поэтов и мыслителей прошлого. Их наследие, как сказано, было признано национальным. Уже тогда идеологические конструкты в национальной политике бывшего СССР (под лозунгом «свободное развитие наций») побуждали наполнять исторические пространства новых социалистических республик национальными нарративами и искать в прошлом героев, чаще всего, создавая их креативные (воображаемые) образы.
Одновременно акцент на «национальном наследии» всегда рисковал попасть под обвинение в «национализме», «местничестве», «популяризации феодальных ханских режимов и средневекового мистицизма[74]» и т.п. Так случилось со знаменитым писателем и переводчиком Айбеком, которому поставили в вину попытку популяризовать тюркский эпос «Алпамиш», а так же творчество «феодального правителя» Захир ад-дина Мухаммада Бабура (Қаюмов, С. 62-63, 148). Позже похожие обвинения были адресованы самому плодовитому арабисту-востоковеду Института востоковедения М. Салье[75]. Такие же обвинения-клише прозвучали в упомянутом письме-доносе и затем в критичекой газетной статье, особенно в адрес домулла – наиболее уязвимый в таких случаях «класс востоковедов», ассоциируемый с «пережитком», не способным ассимилироваться. Хотя инициаторами в возрождении «позитивного наследия» домулла не выступали никогда несмотря на то, что оно было им ближе всего.
Во всяком случае, под настойчивым давлением добровольных и официальных идеологов от науки, произошла перемена исследовательских приоритетов Института и его названия. «Злободневные и жгучие темы» по современному состоянию «Востока» оказались на первом плане, и во всех отчетах последующих лет их обсуждение на ученых советах выносится на первый план, а более привычная работа по переводам, академическим исследованиям или каталогизации обсуждаются в последнюю очередь[76].
В результате, был образован фактически новый «Институт востоковедения» на Востоке, став самым показательным продуктом советского идеологического концепта о «двух Востоках»[77]. Появившаяся еще в 30-х годах формула «Зарубежный Восток» стала объектом идеологической и внешнеполитической манипуляции и была закреплена в качестве «жгучего жизненного направления» для советского (в том числе и узбекского) востоковедения.
«Зарубежный Восток» оказался «другим». Одновременно в докладах на ученых советах ИВ Среднеазиатские республики СССР называются «Маяками социализма на Востоке»[78]. Советская идеология пыталась представить «Социалистический Восток» не просто как удачное воплощение ленинской идеи о «скачке из феодализма в социализм, минуя капитализм». «Социалистический Восток» должен был быть презентован в качестве позитивного примера странам «Зарубежного Востока», который начал освобождаться от колониализма и, естественно, искал пути собственного развития. Похоже, что советские партийные бонзы увидели шанс расширить «социалистический лагерь», представив «Зарубежному Востоку» пример лучшего Востока.
Итак, в момент «переориентации» ИВ, критика «Зарубежного Востока» оказалась едва ли не главной темой советской пропаганды. «Другой/Зарубежный» Восток воспринимался в традиционно ориенталистском и имперском контекстах. Это был «плохой Восток», отсталый, упорно придерживающийся «средневековых традиций», который погряз в панисламизме, пантюркизме и прочих «измах» и вдобавок оказался угнетаемым англо-американским империализмом[79]. Однако в нем, с точки зрения официальной идеологии, росли и усиливались классовые противостояния, сопровождаемые борьбой за независимость[80].
Во всяком случае, в результате официального давления Институт по изучению рукописей превратился в подлинный советский Институт востоковедения. Однако почти тотальная идеологизация исследований «Зарубежного Востока» сослужила весьма дурную службу этому направлению в советском и особенно узбекистанском «востоковедении». Желая актуализировать направление исследований в рамках заданных марксистских догм и идеологии (вернуть в советскую жизнь «институт, оторванный от жизни»), исследователи «Зарубежного Востока» в большинстве своем оказались еще более отвлеченными от действительного понимания сложнейших политических, религиозных и социальных процессов, происходивших в нем и которые они пытались передать с помощью принятых идеологических догм и штампов.
После независимости Институт сохранил свое прежнее название (Институт востоковедения Академии наук), которое, правда, стало наполняться иными смыслами, связанными больше с изучением, публикацией и популяризацией рукописного наследия и национальной истории. Медиевистика и исламоведческие исследования стали обычными в научных планах ИВ АН РУз. Однако Институт не может остаться в стороне от происходящих в стране и регионе процессов. В начале независимости акценты переосмысления («формирования») прошлого наполняются новыми идеологемами. Термин «великие ученые» стал толковаться значительно шире, и в нем особое место заняли местные мусульманские богословы, которые изрядно потеснили прежних столпов, имидж которых был условно «секулярным» (ал-Фергани, ал-Бируни и др.), по крайней мере, связан с их рационалистической (му‘тазилитской) идеологией.
В современном Узбекистане акценты исторических исследований изменились, отражая бурный и неоднозначный процесс национального возрождения, а так же реисламизации (в консервативных формах). Теперь исламоведческие исследования (обретающие чаще всего апологетические формы) как бы компенсируют многолетнее умалчивание атеистического прошлого, а объектами многочисленных публикаций большей частью становятся биографии ученых-схоластов и их трудов. Институт востоковедения АН РУз не остался в стороне от этих процессов, однако вносит долю академизма в этот процесс.
Прошлое как бы вновь повторилось в стенах ИВ, правда, в несколько ином виде. В последние десяток лет среди молодых сотрудников Института появилась группа исследователей, которые некогда получили официальное или неофициальное религиозное образование. Кроме того, они поучились в светских учебных учреждениях и получили соответствующие дипломы и, значит, право работать в ИВ, в чем проявилась реальная толерантность государственной религиозной политики. Отношение к верующим сотрудникам со стороны условно секулярных сотрудников Института в целом вполне терпимое. Они без всякого препятствия оправляют свои религиозные ритуалы в ближайшей мечети.
Однако стиль их исследований остается во многом религиозно-апологетическим, который, впрочем, иногда меняется под влиянием внешней среды. Естественно, они предпочитают выбирать исключительно исламоведческие направления исследований, стараясь наполнить их своими смыслами и восприятиями. Однако когорта этих сотрудников не обладает теми же знаниями, эрудицией, навыками и опытом, какими обладали домулла. Так что нынешнее вовлечение религиозно воспитанных молодых сотрудников в стены Института, во многом унаследовавшего былую структуру и цели светского научного учреждения, лишь отдаленно напоминает былую историю с домулла.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Краткие биографии некоторых ‘улама’-востоковедов,
работавших в ИВ АН РУз
Ибодулло Одилов/Одилий/عبادالله عادلی (1872-1944)
Родился в Бухаре. Его отец Одил хваджа (عادل خواجه) был потомственным переплетчиком книг (саххаф) (Акмалова, с. 76). Это обстоятельство благоприятствовало тому, что И. Одилов по классовой принадлежности был признан потомком «трудовой интеллигенции» и, следовательно, пригодным для работы в ИВ АН РУз[81].
Одил хваджа был знатоком арабской, персидской и тюркской литературы, собирал собственную библиотеку. Своего сына Ибодулло он отдал учиться в мактаб и затем на короткое время в медресе. Параллельно Ибодулло с 15 лет работал вместе с отцом и освоил профессию переплетчика. Однако он не бросил учебу, продолжив ее у некоторых знаменитых богословов Бухары и знатоков арабской грамматики. После смерти отца в 1890 году, работал самостоятельно и параллельно в частном порядке продолжал обучаться у ряда бухарских богословов, в первую очередь, каллиграфии. Он стал наследником библиотеки отца, сам занимался сбором редких книг и прославился как библиофил (Муродов, 155-156; Акмалова, 76).
После свержения ханского режима в Бухаре и создания Бухарской Народной Социалистической Республики (БНСР; 1920-1924), И. Одилов был сотрудником библиотеки имени Ибн Сина (Бухара). Через шесть лет приступил к работе в Областной библиотеке Самарканда и затем в 1935 году переведен в Ташкент в Государственную библиотеку имени Навайи в Отдел редких рукописей и изданий[82]. Тогда же специальным приказом комиссариата республики в этот отдел были перевезены около 5,5 тысяч рукописей из бывшей библиотеки Назирата (Министерства) культуры и образования бывшей БНСР (1920-1924), Самарканда и других исторических городов Узбекистана[83]. Здесь И. Одилов продолжал заниматься систематизацией и предварительным описанием этих книг, начав составлять картотеку (т.н. «фишки», то есть идентификационные карточки с названиями сочинений, именами их авторов, мест переписки рукописей, именами переписчиков и т.п.), которая используется до сих пор. Тогда же И. Одилов (вместе с А. Молчановым, Е. Бетгером) предложили поделить фонд нового Института на две группы: «Основной» и «Дублетный» фонды (см. об этом выше).
После его смерти составление картотеки рукописных произведений продолжили его преемники из ‘улама’-востоковедов А. Абдуллаев, А. Расулов, А. Носиров и др. (о них см. ниже). И. Одилов составил подробные записки об авторах рукописных сочинений, о произведениях по истории и особенно по суфизму, литературе, истории и фикху. Эти записки позже использовались при составлении первых томов знаменитого каталога «Собрание восточных рукописей Академии наук УзССР» (СВР). Однако в качестве соавтора он был включен только в авторский коллектив Первого тома СВР (Ташкент, 1952).
Одновременно И. Одилов приступил к реставрации некоторых книг, позже открыв специальную реставрационную мастерскую при Институте восточных рукописей, которая продолжила работу в ИВ (Муродов, 156-157). И. Одилов обладал обширной эрудицией в области письменных источников, и поэтому его основной задачей была идентификация сочинений, которые не вошли в картотеку.
Одним из любимых его авторов был Ибн Халдун, чью рукопись в Институте он переписал и вновь переплел в традиционном стиле (Муродов, 156). Однако каких-либо статей или заметок о нем он не сделал, опасаясь, что они будут использованы против него. В целом И. Одилов переписал 23 экземпляра редких и трудно читаемых рукописей, среди которых, сборник писем из знаменитого «Альбома Нава’и» (архивный № 2178)[84]. Нужно сказать, что этот и подобные сборники писем написаны особыми видами почерков (дивани, шикасте, та‘лик) и без диакритических точек, что затрудняло чтение текстов. Эту работу И. Одилов выполнил с успехом[85]. В конце одной из переписанных им рукописей, Одилов оставил автограф (13 мая 1939 года), в котором в традиционном стиле средневековых переписчиков выражал надежду, что переписанные им письма «откроют завесу тайны с этих рисала» и помогут читателям и исследователям понять «мысли и кредо, поведение и деяния» Мир Алишира Нава’и и его респондентов. В конце своей копии он приписал: «Мне скромному (переписчику) достаточно того, чтобы на страницах истории обо мне осталась память» (Муродов, 159).
И. Одилов был в переписке с такими известными реформаторами как Абдурауф Фитрат (ум. в 1938), упомянутым Садр-и Зийа (1870-1932), Садриддином Айни (1878-1954) и др. (Акмалова, 76). Старейший сотрудник Института Абдулла Носиров (так же из когорты «домулло») рассказывал, что И. Одилов до конца своих дней переписывался с Садриддином Айни, однако опасался отправлять оригиналы своих писем в арабском шрифте (на фоне атеистической борьбы) и просил некоторых сотрудников переписывать его письма кириллицей.
Абдулфаттох (‘Абд ал-Фаттах) Расулов (1888-1977)
Родился в 1888 году в районе Шайхантаур (Шайх Хаванд-и Тахур) города Ташкента, в семье садовника. Учился в мактабе и семь лет (1910-1917) и в медресе Шайхантаура, где учил арабский, фикх, калам, правила рецитации Корана, основы тафсира и др. (Ирисов, 51-52; Абдуллаев, 155-156). После этого продолжил учебу у частных преподавателей (в частности у Убайдаллах Махдума). Частная учеба включала в себя чтение (мутала‘а) сочинений по морфологии и синтаксису арабского языка, по фикху, каламу, с подробным и углубленным разбором прочитанного текста и способов использования знаний на практике. Одновременно А. Расулов учился каллиграфии у мулла Мухаммад-Амин Махдума[86].
В 1918 году легко прошел отборочный конкурс (помогло «крестьянское происхождение», то есть сына садовника) и поступил на восьмимесячные курсы для учителей начальных школ. Досрочно и с отличием закончив эти курсы[87], А. Расулов участвовал в государственной программе по ликвидации безграмотности и преподавал некоторых школах Ташкента историю, грамматику узбекского языка, начальную математику.
В связи с интенсивной инфляцией и обесцениванием советских денег в 1923 году А. Расулов оставил преподавание и нанялся в рабочие бригады по ремонту и строительству. По его словам, это спасло его семью от голодного существования, а его самого от первой чистки «религиозного элемента», начавшейся в конце 1920-х годов. Он пишет в своей автобиографии: «То, что я попал на такую работу[88], оказалось правильным решением, так как в то время в результате грубой политики [властей], исчезли многие выпускники медресе вроде меня» (Ирисов, 54). В 1942 году А. Расулов был призван в рабочие батальоны Красной армии.
В 1944 году он был комиссован из армии и сразу же приглашен в Академию наук. После собеседования с первым Президентом Академии наук Кары-Ниязи, с первого сентября был принят на работу в Институт изучения восточных рукописей в качестве младшего научного сотрудника. На него были возложены обязанности составления карточек и сбор сведений из рукописей о природных катаклизмах в регионе (землетрясения, наводнения, засухи и проч.). Одновременно, чтобы доказать «важное значение Института востоковедения для народного хозяйства Республики» А.А. Семенов поручает ему собирать сведения о хлопководстве в Средней Азии.
А. Расулов в своей автобиографии признается, что работа в Институте оказалась для него очень полезной в смысле самообразования. В своей краткой автобиографии он замечает: «Работа в Институте востоковедения и общение с его научными сотрудниками стало для меня большим источником знаний. Составляя карточки на книги, я познакомился с содержанием большого количества книг, узнавал много новых авторов, о которых раньше даже не слышал» (Ирисов, 54-55).
С 1948 года А. Расулов был привлечен к переводам ряда философских и медицинских сочинений ал-Фараби, Ибн Сины, ал-Бируни и др. За эти работы в 1962 году ему было присвоена степень кандидата филологических наук без защиты (единственный прецедент в истории ИВ АН РУз). По этому поводу он пишет в своей автобиографии: «В 1962 году мне было присвоена степень кандидата филологических наук. Работа в Институте стала для меня и моей семьи великим счастьем. Я до скончания своего века буду благодарен своему покойному отцу и учителям за то, что побудили меня учиться. Я благодарен моим дорогим друзьям в Институте. Я и мои потомки так же благодарны Партии и Советскому правительству, которые заботятся о людях, за создание условий для моей нынешней деятельности …» (Ирисов, 55). Благодарности коммунистической партии и Советскому правительству А. Расулов выражает в предисловиях почти всех своих переводов[89].
Одновременно А. Расулов переводил на узбекский язык разные исторические и литературные сочинения (с арабского и персидского языков). Среди них знаменитое сочинение Х века «Тарих-и Наршахи» (1961), сочинение Мирза ‘Абд ал-Кадира Бедиля «Нукат» и др. (Ирисов, 54).
В 1956 году за многолетний и добросовестный труд А. Расулов был награжден Почетной грамотой Верховного Совета УзССР. В 1962 году ему было присвоена степень кандидата наук без защиты (по совокупности опубликованных работ). В 1971 году А. Расулов удостоился Государственной премии им. ал-Бируни вместе с такими именитыми востоковедами как У. Каримов, П. Булгаков, с которыми он тесно сотрудничал (Ирисов, 54; Абдуллаев, 157).
Его консультациями в трудно понимаемых местах арабских текстов пользовались знаменитые востоковеды А.К. Арендс, Я.Г. Гулямов, М.А. Салье, П.Г. Булгаков и другие (Абдуллаев, 159). Умер А. Расулов 1 января 1977 года. Ритуальную молитву над его телом перед похоронами (джаназа) читал самый знаменитый муфтий САДУМ Зийа’ ад-дин (Зиёвуддин) Бабаханов (информация покойного А. Урунбаева, 2000 г.).
Абдукодир (‘Абд ал-Кадир) Муродов (1893-1974).
Его полное имя: ‘Абд ал-Кадир ибн Бирди-Мурад ал-Хаббаз ибн Шах-Ни‘мат Аллах ибн Шах-Рустам ибн Шах-Хасан ибн Шах-Бадал-ахунд Хафиз-Кухаки аш-Шаши ал-Муради/Мурадов. Родился в Ташкенте. Учился в мактабе, с 1907 и по 1917 продолжил учебу в ташкентском медресе Абу-л-Касима (возведено 1856 г.). Каллиграфии обучался у своего дяди по отцу Шах-Мурада Махдума. Затем учился арабскому языку и хадисам[90] у ваххабитского улема из Сиро-палестинского региона Шами ат-Тараблуси (Шами-домулла)[91]. А. Муродов переписал каллиграфическим почерком одно из сочинений своего учителя[92]. Шами-дамулла прибыл в Ташкент в 1919 году и уже через несколько лет начал сотрудничать с большевиками, которые для укрепления своей власти поначалу привлекали на свою сторону богословов. В частности, Шами-домулла на одном из съездов богословов в Ташкенте (1922) выступил с одобрением «исламского социализма (в духе идей Джамал ад-Дина ал-Афгани) и призвал богатых делиться с бедняками (Ash-Shami, 1922, 3). А. Муродов вошел в группу сильнейших учеников этого богослова из Сиро-палестинского региона. Однако в 1925 году Шами-домулла начали преследовать органы НКВД и он отдалил от себя своих учеников, в том числе и А. Мурадова[93]. На короткое время А. Мурадов уехал в пригород и работал в сельской земледельческой коммуне (из Личного дела, Архив ИВ АН РУз).
В 1927 году А. Муродов поступил на учительские курсы и работал учителем в начальной школе. В 1938 году приглашен на работу в Публичную библиотеку Уз ССР и одновременно на Восточный факультет Среднеазиатского государственного университета (читал основы каллиграфии). В 1940 году в связи с началом подготовки к юбилею Алишера Навайи, был привлечен на работу во вновь созданный Комитет по подготовке к юбилею поэта (из Личного листка).
В 1942 был призван в армию и участвовал в боях. Комиссован в 1944 г. в связи с ранением и сразу принят в ИВ. Активно участвовал в составлении картотеки (фихрист), восстановлении и переписке рукописей. Особенно знамениты его работы по восстановлению утраченных листов некоторых произведений, переписанных для высокопоставленных лиц тимуридского двора (Навойи и др.). Позже участвовал в переводах медицинских, географических и исторических сочинений Ибн Сина, Йакута ал-Хамави, ал-Истахри (Муродов, 1971, 161).
В 1967 г. А. Муродов году защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата филологических наук и на основе диссертации опубликовал книгу «Orta Оsiyo khattotlik san’ati tarixidan» (Из истории искусства каллиграфии Средней Азии, Ташкент, 1971).
А. Муродов организовал неофициальные курсы по каллиграфии и определению стиля почерков для сотрудников Института (Муниров, 1995, 153-154). В 1962-1970-е годы преподавал на Факультете восточных языков Ташкентского государственного университета (арабский язык и каллиграфию).
Кроме того, в 1968 году А. Мурадов (совместно с А. Носировым) восстановил тексты и затем подготовил эскизы для реставрации надписей мавзолея Гури Амир и часть куфической надписи медресе Улугбека (из рассказа А. Носирова). Эти надписи сохранились и поныне и являются самым лучшим образцом реставрации тимуридской эпиграфики.
Солих Муталибов (1900-1972)
Родился в 1900 году в Ташкенте. С 1912 и до 1918 год учился в медресе. Затем совершенствовал свои знания в арабском и персидском в частном порядке. В 1922 году решил сменить направление деятельности в связи с тем, что многие медресе остались без средств к существованию. В том же году закончил курсы преподавателей по ликвидации безграмотности и затем работал в Ташкенте, Самарканде, городах Ферганской долины в качестве учителя в бригадах по ликвидации безграмотности. В 1930-1932 годах издал ряд учебников и методических руководств по преподаванию в начальных классах основ литературы. С 1932 года работал в Институте педагогики воспитания, где продолжает издавать методические руководства для преподавателей узбекского языка и литературы. В 1936 году поступает в аспирантуру Института языка и литературы и заканчивает ее в 1938 году. Через год защищает диссертацию («Глагольные конструкции в современном узбекском языке». Ташкент, 1939, Институт языка и литературы).
В 1946-1950-е годы работал в Институте востоковедения АН УзССР начальником Отдела каталогизации и реставрации рукописей. В 1951 году, в связи со статьей в газете «Правда (16 августа, 1951) был уволен и, проработал некоторое время в Инстиутуте языка и литературы. Затем, с 1958 работал на восточном факультете Ташкентского государственного университета.
(Источник: личное дело Салиха Муталибова).
Юнус Хакимджанов (1893-1966).
Родился в Ташкенте. Учился в мактабе (1901-1910) и медресе (1910-1925). До окончания медресе работал в составе бригад по ликвидации безграмотности (1920-1921), затем каллиграфом в издательстве «Туркистон». В 1923-1932 годах работал обычным садовником, опасаясь репрессий. В 1932 году перебрался в Синьцзян[94], где участвовал в революционных событиях на стороне Китайской народной армии Мао Цзедуна. Затем был назначен новым правительством Китая. В 1952 году был Председателем мусульманского общества Китая (Пекин). В 1956 году вернулся в Советский Союз в составе репатриированных из Китая граждан СССР. В том же году был устроен в ИВ АН Уз ССР, где проработал до самой смерти (1966 г.).
Ю. Хакимджанов привлечен к переводам некоторых произведений Абу ‘Али ибн Сины, ал-Бируни («История Индии»), переписал ряд исторических сочинений из фондов ИВ и т.п.
(Источник: Личное дело из архива ИВ АН РУз).
Мирзаев Содик (1885-1967) (фото 5488)
Полное его имя: Мирза Садик ибн Мирза Мухаммад аш-Шаши. Родился в Ташкенте в семье мастера по выделке кожи. С 1897 по 1903 учился в мактабе, а с 1903 по 1917 – в медресе. В 1918-1920 гг. был учителем в начальной школе, преподавал математику. Параллельно был мударрисом в реформаторском медресе и обучал студентов арабскому языку. Затем работал преподавателем математики на РабФаке в Ташкенте. В 1930-1939-х годах руководил лабораторией при Естественно-историческом кабинете и составлял справки на основе старых рукописей по минералам и лекарственным травам. Параллельно преподавал математику в техникумах. В 1939–1941 годах принят в Институт языка и литературы, где принимал участие в составлении «Толкового словаря к произведениям Навойи». Затем перевелся в Публичную библиотеку и работал вместе с И. Одиловым. С созданием Института по изучению восточных рукописей, стал его сотрудником (с 1944 года) и работал над переводами некоторых исторических сочинений и параллельно принимал участие в составлении каталога рукописей и литографированных изданий. С 1947 и по 1953 годы участвовал в переводах сочинений Ибн Сины (Авиценны) по фармакологии, ал-Хоразми по математике, а так же над переводом ряда исторических сочинений. Одновременно (с 1944 и по 1950 год) преподавал арабский язык на Восточном факультете САГУ, деканом которого являлся в 1948-1949 годах и признан лучшим знатоком арабского языка.
Садык Мирзаев первым из домулла защитил диссертацию кандидата филологических наук в 1948 году (тема: «Аруз у Навойи»). Он стал лауреатом множества премий и авторских патентов по лекарственным препаратам.
(Источники: Личное дело. Архив АН РУз, фонд 55, опись 3, дело 157, Л. 130-140; Б.З. Халидов. История кафедры филологии (Востфака ТашГУ). Неопубликованная ркп.)
Лазиз Азиззода (1897-1987)
Внук известного богослова и каллиграфа ‘Абд ал-Хакк катиб ибн ‘Абдухалим-кари (‘Алим-кари; 1808-1886 г.). ‘Абд ал-Хакк учился в Бухаре и затем был мударрисом одного из медресе Ташкента. ‘Абд ал-Хакк был хорошим врачом, в 1881-1884 годах после хаджжа посетил ряд стран Ближнего Востока и Турцию. В Стамбуле он в течение 3 лет обучался каллиграфии и одновременно преподавал арабский язык (Муродов, 160).
Азиззода родился в Ташкенте, здесь же учился в мактабе и затем в медресе старого типа (до 1918 г.), которое не успел окончить. После Октябрьской революции участвовал в ряде молодежных движений, близко сошелся с реформаторами и политическими деятелями из круга джадидов низшего и среднего звена. Работал в отделе пропаганды и идеологии при ЦК КП(б) до 1938 года.
В 1939 году был арестован по «делу джадидов». Реабилитирован в 1954 году и принят на работу в ИВ АН Уз ССР, где проработал до пенсии. В Институте в основном занимался составлением карточек на рукописи и их описаниями. Параллельно публиковал свои воспоминания о первых революционных лидерах большевистского движения, воспоминания о джадидах и т.п. Основная его книга по реформаторскому движению в Туркестане (Туркистоннинг уйғониш тарихидан / Из истории пробуждения Туркестана. Написана в 1925, переписана и дополнена в 1954-60 гг.) не опубликована и осталась в виде рукописи.
Джуванмардиев Абдулладжан (1892-1978).
Родился в Коканде. Отец был земледельцем. В 1900 по 1905 учился в мактабе, затем в медресе «‘Āли» в Коканде, которое закончил в 1917 году. После Октябрьской революции учился на курсах учителей (до 1920 г.) и параллельно работал в школе по ликвидации безграмотности, преподавая, в основном, солдатам Мусульманского полка Красной армии. Затем активно участвовал в становлении советской школы вместе с джадидами, с которыми он близко сошелся еще на курсах преподавателей. Его публикации тех лет[95] показывают, что он был сторонником радикальных джадидов, выступавших на стороне большевиков.
С 1922 по 1930 годы работал (по комсомольской мобилизации) в Ферганском областном суде. Тогда же поступил на вечернее отделение Юридических курсов и окончил их через два года. По собственным словам А. Джуванмардиева в тех же годах он «активно боролся с басмачами[96]», а так же «во время кампании раскрепощения [эмансипации – Б.Б.] женщин, присудил к высшей мере наказания – расстрелу – двух мужчин за убийство своих жен, бросивших паранджу»[97]. С 1930 по 1937 год А. Джуванмардиев работал Уполномоченным президиума судебных защитников в Коканде и Намангане.
С 1935 года параллельно с работой учился в Ташкентском юридическом институте (заочное отделение), которое не успел закончить в связи с арестом в 1937 году по ложному обвинению в «поддержке националистических планов джадидов». Ссылку отбывал в городе Углич Ярославской области и затем в Краснодарском крае.
В 1948 году Джуванмардиев был полностью оправдан. Окончательно реабилитирован 28 января 1957 года. С мая 1957 года начал работать в ИВ АН Уз ССР, где проработал до самой смерти.
Его главный труд: «Земельно-водные отношения в Фергане в XVI-XIX веках» (Ташкент: Фан, 1965), в которой он ограничился публикацией некоторых документов, не делая обширных выводов. За два года до выхода этой книги, Джуванмардиев представил это исследование на соискание ученой степени кандидата наук и успешно защитил по ней диссертацию (1963). Интересно, что для подтверждения «высшего духовного образования» (по принятым тогда правилам) Джуванмардиев представил свидетельство своего однокурсника по медресе в Коканде Сахибаева Фазилджана[98]. (фото 5572, 5629)
(Источник: Личное дело А. Джуванмардиева).
Носиров/Насыров Абдулла (1900-1986)
Родился в Ташкенте в семье кустаря-переплетчика. Окончил мактаб и медресе (в 1921 году). Затем учился каллиграфии в частном порядке. Параллельно стал собирать старые рукописи и прослыл как библиофил. В частном порядке он составлял картотеки лицам, кто имел книги на арабском, персидском и тюркских языках. Это был его первый опыт как библиографа. С 1922 года работал в разных библиотеках и занимался составлением карточек на книги, журналы и газеты. В 1933 году А. Насыров был арестован по сфабрикованному делу с обвинением «растрата»[99]. В 1936 году был оправдан и восстановлен на работе в должности библиотекаря.
В 1940 году Насыров начал работать в Отделе восточных рукописей Государственной публичной библиотеки в Ташкенте (совместно с Е.К. Бетгером и А. Молчановым). С 1944 года стал сотрудником Института по изучению восточных рукописей и принимал участие в составлении картотеки рукописей (фихрист) и параллельно работал в библиотеке Института.
В 1952 году был на короткое время уволен из ИВ в связи с публикацией в газете «Правда» статьи с критикой работы Института. Однако его увольнение было оформлено с формулировкой «по болезни»[100]. Восстановлен в июле 1953 года.
С 1953 года вышел на пенсию по болезни, хотя продолжал работать в Институте востоковедения АН РУз до самой смерти.
Известны около трех десятков научных и научно-популярных статей А. Насырова, опубликованные в основном на узбекском языке. Кроме того, он переписал каллиграфическим почерком полтора десятка рукописей, пришедших в негодность (среди них «Тухфат ан-нуззар» Ибн Баттуты). Он был награжден различными премиями и наградами АН Уз ССР.
(Источник: Личное дело А. Насырова, Архив АН РУз, опись 3, дело 107).
Список использованной литературы:
— Абу Райҳон Беруний. (973-1048), 1968. Танланган асарлар. Қадимий халқлардан қолган асарлар. Таржимон А. Расулов. Масъул муҳаррир И. Абдуллаев, О. Файзуллаев. 1-жилд. Тошкент: Фан.
— Азиззода, Лазиз, 1976. Yangi hayot kurashchilari. Toshkent: Фан.
— Ахунова М.А., Лунин Б.В., 1970. История и исторические науки в Узбекистане. Краткий очерк. Ташкент: Фан.
— Абдуллаев И., 1994. Абдуфаттоҳ Расулов / Sharqshunoslik. No 5, 155-159.
— Акмалова M., 1991. Ибодулла Одилов / Sharqshunoslik. No 2, 75-81.
— Академик И.Ю. Крачковский, 1958. Избранные сочинения. Очерки по истории русской арабистики (1950). Том V, С. 9-194. (2 раза)
— An Islamic Biographical Dictionary of the Eastern Kazakh Steppe. 1770-1912. Qurban-‘Ali Khalidi / Ed. by Allen J. Frank & Mirkasim Usmanov. Leiden, Boston: Brill, 2005.
— Бабаджанов Б. 2001. «О фетвах САДУМ против «неисламских» обычаев». Ислам в Центральной Азии. Взгляд изнутри. Аналитическая серия Московского отд. Фонда Карнеги. Ред. М.Б. Олкотт, А. Малашенко. – Москва: Московский центр Карнеги, – вып. 6, С. 65-78.
— Бабаджанов Б. 2002. «Среднеазиатское духовное управление (САДУМ): предыстория и последствия распада». Многомерные границы Центральной Азии. Ред. М.Б. Олкотт, А. Малашенко. – Москва: Московский центр Карнеги, № 2, С. 55-69.
— Журнал “Haqīqat» как зеркало религиозного аспекта в идеологии джадидов. Вводная статья, критический обзор и факсимиле: Б.М. Бабаджанов. Ташкент-Токио, 2007
— Ирисов А., 1964, Toshkentda arabshunoslik. Qisqacha ocherk (Арабистика в Ташкенте. Краткий очерк). Tashkent: Fan.
— Иванов В.А., 2012. Академическая наука в Узбекистане в 50-е – 60-е годы. Роль национальных кадров в ее развитии / Д.А. Алимова, У.А. Абдурасулов (редакторы). Академия наук в интеллектуальной истории Узбекистана. Ташкент: Yangi nashr, 98-139.
— Jo-Ann Gross, Asom Urunbaev, 2002. The letters of Khwāja ‘Ubayd Allāh Ahrār and His Assosiates. Persian text edited by Asom Urunbaev. English translation with notes by Jo-Ann Gross. Introductory essays by Jo-Ann Gross and Asom Urunbaev. Brill, Leiden, Boston, Köln.
— Крачковский И.Ю., 1958. Очерки по истории русской арабистики (1950) /Избранные сочинения, том 5. Москва: Издательство АН, С. 9-155.(2 раза)
— Лунин. Б. В. Три памятные даты (к 100-летию со дня рождения академика АН УзССР М. С. Андреева, члена-корреспондента АН УзССР А. А. Семёнова, профессора Н. Г. Маллицкого) // Общественные науки в Узбекистане № 5, 1973, С. 34-37.
— Muminov A., 1999. Fonds nationaux et collections privées de manuscrits en écriture arabe de l’Ouzbékistan. In: Cahiers d’Asie centrale, vol. 7. Patrimoine manuscrit et vie intellectuelle de l’Asie centrale islamique. Sous la direction d’Ashirbek Muminov, Francis Richard et Maria Szuppe, Р. 17-38.
— Муминов A., 2005. Введение / Бабаджанов Б.М., Муминов А.К., фон Кюгельген А. Диспуты мусульманских религиозных авторитетов в Центральной Азии в ХХ веке: критические издания и исследования источников. –Алматы: Дайк-Пресс, 2007, С. 57-60.
— Муниров Қ. 1995. Моҳир ҳаттот. / Sharqshunoslik. No 6, 153-156.
— Муродов A. 1971. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Тошкент: Фан.
— О работе Института востоковедения АН УзССР, 1951 / Известия Академии наук Уз ССР. Ташкент, № 1, 114-120 (Предположительно автор статьи С. Азимджанова).
— Остроумов Н. 1886. Сарты. Этнографические материалы. Ташкент, изд. второе, дополненное.
— Остроумов Н. 1899. К истории народного образования в Туркестанском крае. Константин Петрович фон-Кауфман. Устроитель Туркестанского края. Личные воспоминания Н. Остроумова (1877-1881 г.г.). Ташкент.
— Khalid, Adeeb, 1998. The Politics of Muslim Cultural Reform — Jadidism in Central Asia. Berkeley, Los Angeles, London.
Hellbeck J., 2006. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Harvard Univ. Press.
— Хельбек Й. 2002. «Советская субъективность» – клише? // Ab Imperio, № 3. С. 402.
— Tolz, Vera. 2011. Russia’s Own Orient. The Political of Identity and Oriental Studies in the late Imperial and Early Soviet Periods. Oxford, University Press.
— Урунбаев А. 1982. Письма-автографы Абдурахмана Джами из альбома Навои. Ташкент: Шарк.
— Yurchak A., 2006. Everything Was Forever, Until It Was no More: The Last Soviet Generation. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
— Ash-Shami, 1922. Abu Zarr Ghifari (radi Allah ‘anh) va Sutzializm / Qizil bayraq. No 20, Toshkent, 1922. 3.
— Фитрат, 1933. Три документа по аграрному вопросу в Средней Азии // Записки Института востоковедения АН СССР. Вып.2. Л.,.
— Халидов Б.З. История кафедры филологии (Востфака ТашГУ). Неопубликованная ркп. (где хранится ныне?)
— Шмидт А.Э., 1935, «Знатный библиограф». Qizil O’zbekiston, № 144.
— Қаюмов А.П. 2012. Ўзбекистон академиклари. Тошкент.
[1] Сокращенный вариант этой статьи опубликован: Babadjanov Bakhtiyar M. ‘Ulama’-Orientalists: Madrasa Graduates at the Institute of Oriental Studies in Tashkent // in: M. Kemper, Artemy Kalinovsky (Editors) ‘Interlocking ‘Orientologies’. London-New-York: Routledge, 2015, P. 47-84.
[2] Я с благодарностью вспоминаю покойных сотрудников Института востоковедения АН РУз П.Г. Булгакова, А. Носирова, А. Урунбаева, К. Мунирова и Д. Валиеву за предоставленную мне некогда информацию о прежних сотрудниках Института. Кроме того, я искренне признателен здравствующим бывшим и нынешним сотрудникам Института А.П. Каюмову, Л.М. Епифановой, Д. Юсуповой, Р. Абдуллаевой, С. Каримовой и многим другим за информацию, которая была важна в ходе написания этой статьи.
[3] Духовное управление больше было известно под аббревиатурой САДУМ. См.: Бабаджанов, 2001; Бабаджанов, 2002.
[4] Крачковский, 1958, С. 82-83, 138-139; Tolz, 2011, 75-79. Можно так же упомянуть пример русского колониального эксперта по исламу Н.П. Остроумова (ум. в 1930), который охотно сотрудничал с чимкентским (затем ташкентским) кадием Мухйи ад-дином кади. См.: Остроумов, 1896, 142-143; Остроумов, 1899, 203-204.
[5] В советское время каждый работник заполнял особый формуляр, называемый «Личный листок», а с 1961 г. – «Личный листок по учету кадров», куда заносились все данные о работнике. В «Личном листке» были такие вопросы как «В каких партиях состоял?», или «Участвовал(а) в партийных блоках внутри ВКП(б)», «Кто из родственников участвовал в контрреволюционном движении?» и т.п. В «Листках» 1961 года подобные вопросы были удалены.
[6] Е.К. Бетгер (1887-1956) и его супруга Е.Н. Бетгер (ум. в 1948 г.; дочь знаменитого миссионера и востоковеда казанской школы Н.П. Остроумова). В 1920-1924 годах оба обучались на курсах арабского языка Туркестанского института Востока, который был создан в 1918 году, а с 1920 года вошел в состав Среднеазиатского Государственного университета (создан согласно декрету В. Ленина в 1920 году. Факультет (восточных языков в его составе?) просуществовал до 1931 года и был восстановлен в 1943 году). См.: Ирисов, 1964: 13; Е.К. Бетгер / http://www.centrasia.ru/person2.php?&st=1207078035.
[7] Шмидт, 1935; О работе Института, 1950, 119-120.
[8] В биографии А.А. Семенова есть эпизод, который должен был сильно повредить его карьере при новой власти большевиков. В 1914 году он на недолгое время был назначен вице-губернатором Самаркандской области. Однако после революции он сбежал в Моршанск (его родина) и подчеркнуто отстранялся от политики, особенно при большевиках. Позже активно принимал участие в создании Среднеазиатского государственного университета, что, видимо, спасло его от ареста. См. подробнее: Лунин, 1973: 34-37. В целом биография А.А. Семенова была бы особенно интересной, чтобы проследить конвертацию русского провинциального востоковеда в одного из основателей советского востоковедения в Средней Азии.
[9] Отношение к арабистике и арабскому языку в первые несколько десятилетий Советской власти было неоднообразным и тоже зависело от идеологических коньюктур. Восточное отделение Среднеазиатского университета был открыто в 1920. В 1938 году, в связи с преследованиями востоковедов, закрыто. В 1944 восстановлено и снова закрыто в 1948 году (в связи с преследованиями заведующего кафедрой Садика Мирзаева, так же принадлежащего ранее к когорте домулла), который переведен в ИВ. Арабский факультет вновь был открыт в 1958 году в связи с необходимостью в переводчиках и специалистах и в связи с активизацией «арабской политики» бывшего СССР (Ирисов, 1964, 15-16).
[10] Подробней об истории фонда ИВ АН РУз см.: Muminov, 1999: 17-22.
[11] Домла (домулла) – обращение к религиозно грамотному человеку (синоним ‘алим). «Устоз» (устад) – учитель богословия. Оба термина (в особенности, второй из них) в советское время одновременно прилагали к улемам, преподавателям светских учебных заведений и докторам наук и выдающимся писателям.
[12] Здесь и ниже я привожу их имена в таком виде, каком они зафиксированы в их кратких автобиографиях и личных карточках, хранящихся в архиве ИВ АН РУз. Пользуясь случаем, выражаю благодарность нынешнему начальнику Отдела кадров ИВ АН РУз М. Баубаевой за бескорыстную помощь.
[13] Об этом свидетельствуют краткие отчеты сотрудников Отдела восточных рукописей, которые затем стали научными сотрудниками Института восточных рукописей. См.: Архив АН РУз, фонд 55, опись 2, дело 262 («Учет работы в Отд. восточных рукописей за 1942-1949 гг.»).
[14] Там же, лл. 1, 7, 19, 20 и дальше.
[15] Қаюмов. Ўзбекистон академиклари, 2012, C. 87, 88.
[16] Там же, С. 128-132.
[17] Подробности подготовки и проведение его юбилея, дух тогдашних публикаций освещен в упомянутом исследовании А.П. Каюмова (С. 128-132). См. так же: А. Эркинов, Б. Бабаджанов. «Нава’и» / Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Москва: Изд. фирма «Восточная литература», 2006, С. 298-299.
[18] Яркий пример такого подхода – названия соответствующих сборников статей (O’zbekistonda progressiv ijtimoiy falsafiy fikrlar tarixiga doir materiallar/Материалы к истории прогрессивной общественной и философской мысли Узбекистана. Ташкент: Фан, 1959).
[19] Можно говорить о частном интересе некоторых переписчиков и ученых, кто мог составлять компендиумы медицинских или фармакологических сочинений прошлого.
[20] По замечанию привлеченных к переводам специалистов ИВ с востоковедным образованием У. Каримова, И. Абдуллаева и др., переводы ‘улама’-востоковедов имели архаичную форму и нуждались в адаптации. По рассказу А.П. Каюмова, особенно скептически к знаниям домулла, работавшим в ИВ, относился известный востоковед Д.Г. Вороновский (ученик А.А. Семенова).
[21] Однако именно такие сочинения (по характеристике вполне подходящие под идеологему «Материалистические сочинения») переводились в рамках упомянутых обширных проектов ИВ АН Узбекистана.
[22] Вовлечение представителей естественных наук (математиков, химиков, фармакологов и философов), следует признать особым феноменом. Часть из них изучили арабский язык и включились в работу по переводу сочинений упомянутых ученых-энциклопедистов средневековья. Это направление востоковедения Узбекистана (а позже и в соседних республиках) стало элитным, поскольку связано не просто со сложными текстами, но вполне соответствовало всегда актуальной задаче изучения научного наследия средневековья.
[23] Это А.Э. Шмидт, А.А. Семенов, А.А. Молчанов, Б.С. Сергеев, Е.К. Бетгер. В 1930-х годах к ним присоединились А.Э. Шмидт, М.А. Салье, А.А. Молчанов, В.И. Беляев, А.Д. Вороновский, Е.А. Арендс и др. См. их отчеты: Архив АН РУз, фонд 55, опись 2, дело 262 («Учет работы в Отд. восточных рукописей за 1942-1949 гг.»).
[24] В настоящее время в ИВ АН РУз осуществляется многолетняя работа над проектом (финансируется ИВ и фондом «Герда Хенкель») по составлению электронного каталога фонда рукописей и печатных изданий Института (рук. проф. Ю. Паул, С. Гуломов). По информации С. Гуломова, картотека с первичной информацией о рукописях может быть оценена как плод уникального и многолетнего труда. Однако нередко в карточках обнаруживаются недостатки. Например, не всегда описаны все произведения, подшитые в одной рукописи, иногда не определены авторы и названия (или определены ошибочно), неточно указаны листы произведений и т.п. Однако участники проекта не разделяли карточки по их составителям. Иными словами, составление картотеки продолжалось и после ‘улама’, вовлеченных в эту работу, поэтому кем и когда были составлены конкретные карточки с упомянутыми ошибками, никто не пытался определить.
[25] Самые обширные ремарки и описания рукописей оставил А. Носиров. Ркп. ИВ АН РУз, №№ 2494, 2495.
[26] Мой основной интервьюёр А.П. Каюмов (работал в ИВ в 1950-1958 гг.), рассказывая о темных сторонах существования ‘улама’ в ИВ, в Институте языка и литературы, настоятельно советовал мне умерить мое любопытство и «обойти темные стороны в жизни ИВ», особенно связанные с коллизиями эпохи сталинизма, чтобы «не тревожить дух умерших людей». Я с удовольствием принял бы этот совет, если умеренное любопытство дало бы возможность понять и объяснить все сложности и необходимые нюансы статуса ‘улама’-востоковедов в одном из самых идеологизированных научных учреждений советского времени.
[27] Я сужу по сборнику документов под названием «Учет работы в Отделе и Институте восточных рукописей за 1942-1947 годы». Архив АН РУз, 55, опись 1, дело 269, лл. 1, 3, 14, 21-23 и дальше. Правда, в конце отчетов за этот период имелись приписки, свидетельствующие о том, что тогдашний директор Института А.А. Семенов и М.А. Салье привлекались в качестве консультантов для Совета Народных комиссаров УзССР, в Центральный комитет Компартии Узбекистана, в Академию наук СССР и другие учреждения (там же, лл. 2, 14 и др.). Кроме того, судя по этим отчетам, тогда же началась подготовка рукописей к изданию каталогов (еще до создания Института). Например, к июлю 1943 года был подготовлен IV–й том Каталога рукописей или составлялась библиография к готовым томам (там же, лл. 26, 56 и др.).
[28] По непроверенным данным, он учился один год у киевского востоковеда А.Е. Крымского. В 1922 г. прибыл в Туркестан, где стал сотрудником Экономических совещаний. В силу непрофессионализма, был отстранен и в 1923-25 гг. работал в Ташкенте с документами архива Туркестанского генерал-губернатора по вопросу о Памире. Прошел подготовку на курсах ГПУ, в 1928 г. отправлен на Памир заместителем начальника отряда «для организации противодействия английской разведке» по линии ГПУ. А. Станишевский уверяет в своих рассказах, что в те времена фактически обладал статусом неофициального правителя Памира, утверждая, что вел обширную подрывную работу против Британии. Подтверждений этому пока не обнародовано. Правда, в 1929 г. на его квартире в Хороге состоялся религиозный диспут между памирскими исма‘илитами и ахмадийским проповедником из Пешавара, о чем, видимо, было доложено А. Станишевским как часть его подрывной работы против Британии (Дорофеева Р.В.: Теологическая речь исмаилита Хайдар-шо Мубарак-Шо-заде. Вступительная статья, подготовка текста и комментарии Р. В. Дорофеева // Третьи востоковедческие чтения. Ташкент: Ташкентская и Среднеазиатская епархия, 2011. С. 428-454). Позже Станишевский вновь был назначен начальником Особой партии Таджикско-Памирской экспедиции, возглавлявшейся Н.Г. Горбуновым (Управляющий делами Совнаркома), с которым познакомился на Памире в 1931 г. В 1933 г. вернулся в Москву и занимался историей басмачества. Здесь же он начал заниматься литературным трудом под псевдонимом Азиз Ниалло, опубликовав несколько повестей о Памире и Гиндукуше. По рассказам близко знавших его людей, в 1937 году Станишевский пересидел в сумасшедшем доме, возможно, опасаясь чисток. В 1941 г. он призван в Красную армию, но был направлен в Среднюю Азию, где, очевидно, служил в разведке Туркестанского военного округа. Этот период самый темный в его биографии. В 1947 г. Станишевский работал в Советско-афганской комиссии по разграничению на Памире. Сведения почерпнуты: Т.Г. Абаева, Исследования А.В. Станишевского (Азиза Ниалло) о Памире // Страны и народы Востока. Вып. XVI. «Памир». Москва, 1975. С. 262-291. Я так же благодарю Т.Г. Абаеву за представленные дополнительные сведения об А.В. Станишевском.
[29] Более всего он прославился своей книгой «Пробуждение Востока» (Ташкент, 1961), написанной в стиле занимательного или приключенческого ориентализма, хотя включает в себя ряд увлекательных и романтизированных эпизодов времен первых лет революции в Туркестане.
[30] По словам А.П. Каюмова, А. Савицкий – бывший охранник тюрьмы, затем работал в ГПУ. До этого он окончил Партийные курсы и после выхода на пенсию стал активистом по распространению русского языка в Узбекистане. В ИВ был принят по рекомендации М.И. Шевердина.
[31] Его личного дела отыскать не удалось, хотя его имя фигурирует в качестве ученого секретаря в некоторых протоколах Института. Архив АН РУз, фонд 55, опись 2, док. 39, лл. 18-22. Там же имеется решение об утверждении диссертационной темы А. Савицкого «Синьцзян, как плацдарм иностранной интервенции в Средней Азии» (Л. 18, 27-28). Однако защитить работу он не успел, и был переведен на идеологическую работу в Каракалпакскую АССР. Старейшие работники Института называли его «человеком Станишевского».
[32] О нем см. подробный очерк: Қаюмов. Ўзбекистон академиклари, C. 124-207.
[33] Известный советский писатель, выпускник Восточного института (Ташкент). В течение многих лет – собственный корреспондент газеты «Правда». В сороковых годах – член ЦК Компартии Узбекистана, затем редактор журнала «Звезда Востока» и заместитель Союза писателей Республики. Основная тема – романы о гражданской войне в Туркестане (о т.н. басмаческом движении). А. Каюмов полагает, что эта группа (Станишевский, Савицкий и Шевердин) тесно сотрудничала с органами ГПУ, стараясь отследить «националистические и религиозные настроения» среди интеллигенции Узбекистана.
[34] Это письмо хранится в архиве АН РУз. Здесь я пользуюсь его копией из архива А.П. Каюмова.
[35] Тучи над В. Захидовым сгустились раньше, когда в его адрес прозвучали некоторые обвинения (слабая работа с аспирантами, плохая связь с учебными институтами и т.п.) во время отчета о работе за 1949 год (Архив АН РУз, фонд 55, опись 2, док. 39, лл. 6-8, 23 января 1950 г.; там же, фонд 1, опись 1, дело 322, лл. 37-39). Он был снят буквально через месяц после этого Отчета. Позже он был лишен академического звания, отовсюду уволен. В.Захидов отчаянно старался спасти свой статус, приступив к написанию работы «Развитие марксисткой философии в трудах т. Сталина по вопросам языкознания», которую ввел в план ИВ (там же, фонд 55, опись 2, дело 45, л. 14). Однако даже такое обычное проявление «верности гениальным идеям т. Сталина» (цитата из протокола) не спасло его.
[36] О других партийных решениях и идеологических конференциях см.: Иванов, 2012, С. 104.
[37] В статистических отчетах задача ИВ определялась таким образом (см. фото 4602): «Разработка проблем истории стран зарубежного Востока, национально-освободительного движения народов этих стран, разработка реакционной сущности панисламизма и пр[очих] реакционных течений …». И во вторую очередь указывалась работа над рукописями и каталогами (Архив АН РУз, фонд 55, опись 2, дело 49, л. 7).
[38] К этому моменту в ИВ работал другой профессиональный разведчик, подполковник в отставке М.Г. Пикулин (1905-1983), который был начальником «Отдела стран сопредельного Востока». В 1921 году он прибыл в Туркестан в составе Красной армии. В 1923 году служил в Украине и тогда же стал членом ВКП(б). С 1927 г. работает в партийных органах Таджикистана (сначала в автономии, затем республике). С 1929 учится в Институте Восточных языков (Ленинград). С 1931 г. работает в Иране, в 1933-1935 гг. в Афганистане и затем в Синьцзяне (1933-1939). Во время войны служил в Иране (в составе контингента Советской группы войск) и выполнял обязанности редактора советской газеты на персидском языке «Ахбар-е тазийе-йи руз» («Новости дня») на персидском языке (к 1946 году ее тираж достиг 300 тыс. экз.). После войны работал в Политическом Управлении ТуркВО (редактор газеты). С 15 мая 1949 года работал в ИВ по совместительству, с декабря 1952 г. на полной ставке (из личного дела М.Г. Пикулина, Архив ИВ АН РУз, Л. 197-199, 212 и др.). Лучшие его публикации: «Афганистан. Экономический очерк» (Ташкент, 1956 г.), «Белуджи» (Москва, 1959) и др. Насколько известно, к домулло Пикулин относился с пиететом.
[39] Докладная записка о выполнении ИВ АН Уз ССР решения Х пленума ЦК КП(б) Уз ССР от 1/IX 1950 г. / Архив АН РУз, фонд 55, опись 2, дело 45 («Справки и докладные записки в вышестоящие организации о деятельности ИВ АН Уз ССР за 1950-1953 годы»), л. 8.
[40] Там же, дело 39, л. 8. Судя по контексту этой «Докладной записки», Станишевский продолжал параллельно работать в Политотделе ТуркВО.
[41] Например, согласно протоколу № 8 от 30 июля 1950 г. (Архив АН РУз, фонд 55, опись 2, дело 39, л. 30) он был назначен редактором переводов ряда знаменитых сочинений бухарских авторов («Мукимханская история», «История Убейдулла хана», «История Абулфейз хана»). Переводы были выполнены профессором А.А. Семеновым.
[42] См. предыдущее примечание, а так же дело № 37 того же фонда.
[43] Архив АН РУз, фонд 55, опись 2, дело 39, Протокол № 14 от 2 октября 1950, лл. 18-21.
[44] См.: Архив АН РУз, фонд 55, опись 2, дело 45, л. 21-24 («Докладная записка о выполнении решения бюро ЦК КП(б) Узбекистана от 14/IV 1951 г., «О мерах по улучшению работы ИВ АН Уз ССР»). Конкретные направления исследований ИВ (в рамках упомянутых решений Компартии и Академии) теперь звучали так: «Кризис колониальной системы», «Разоблачение агрессии англо-американского империализма в странах Среднего Востока» и «Подготовка к изданию восточных рукописей». Конкретные темы выглядели более идеологизироваными. Например: «Панисламизм в Пакистане как орудие реакционной космополитической политики американо-английского империализма» (исполнитель Н.Г. Гусева). Там же, лл. 23-24.
[45] Там же, л. 25.
[46] Это видно по ее справкам о проделанной работе сотрудников ИВ (в т.ч. и домулла). См.: Архив АН РУз, фонд 55, опись 2, дело 45, л. 1-6 (с копиями) и дальше.
[47] А. Каюмов полагает, что текст письма в ЦК КП(б) Узбекистана в действительности составили Шевердин и Станишевский. На расширенных собраниях ИВ они облекали свою критику «научного направления ИВ» в те же клише, которые позже появились в письме и затем в статье.
[48] Академик А.П. Каюмов, рассказывая этот эпизод, заметил, что, впервые читая статью Шмакова, он невольно подумал, что она «могла попасться на глаза товарищу Сталину». Тогда участь упомянутых в ней лиц была бы самой страшной. Поскольку имя Каюмова тоже было упомянуто в связи с его интересом к поэтическому наследию Нодиры (казнена в 1842 г.), которая в статье названа «кокандская ханша», то он тоже приготовился к самому худшему. А.А. Семенов по поводу упомянутого доноса и этой статьи сказал А. Каюмову: «Ну, что ж, пусть пишут пасквили, ведь ничего другого они делать не умеют».
[49] Как пояснил А. Каюмов и другие старейшие сотрудники, в действительности домулла никогда не молились в здании Института. «Молитвой» Шмаков назвал обычный ритуал (связанный, скорее, с доисламскими обычаями), который у узбеков и таджиков называют «омин». Речь идет об исключительно местной традиции, когда после трапезы сидящие проводят по лицу руками и произносят слово «омин/аминь» с благопожеланиями. Теперь это делают и вполне секулярные люди, не читающие молитв. «Старики» действительно ели во время обеда на рабочем месте, но только хлеб и кипяченную воду, после чего действительно, но скорее по обычной инерции, совершали «омин». Некоторые из них не читали молитв совсем.
[50] Таких сведений в тех же анкетах мне обнаружить не удалось. Речь шла только о религиозном образовании, которое получили названные сотрудники. Впрочем, автор статьи и те, кто за ним стоял, вполне освоили метод подтасовок фактов, обычный для сталинской эпохи.
[51] Речь идет об одном из самых ранних тюрко-арабских словарей Махмуда Кашгари (XI в.). Еще до появления письма, работу по подготовке этого словаря к изданию пытались сохранить в плане Института, предложив следующее обоснование в духе времени: «Работа над словарем Махмуда Кашгари пересматривается и дополняется на основе гениальных указаний т. Сталина по вопросам языкознания» (Архив АН РУз, фонд 55, опись 2, дело 45, л. 14). Но тема была передана в Институт языка и литературы.
[52] Информация А. Каюмова, принимавшего участие в составлении этой «Докладной записки».
[53] Там же, опись 3, дело 27, Л. 10 («Протокол № 10 заседания Ученого совета ИВ АН Уз ССР от 22 сент. 1951 года»).
[54] Yurchak, 2006, Р. 29.
[55] Цитата из интервью с бывшей директором Института востоковедения С. Азимджановой (ум. в 2001). С такими словами она
[56] Я пользуюсь записями своих бесед с покойной С.А. Азимджановой (1996, 1997). Ее почтительное отношение к улемам-востоковедам подтверждали и другие старейшие работники Института (покойные Б.С. Маннанов, А. Урунбаев и др.).
[57] Массон М.Е. Из воспоминаний среднеазиатского археолога. Ташкент, 1986, С. 22.
[58] Среди них такие известные арабисты и иранисты как Б.З. Халидов, А. Арендс, М. Салье, У. Каримов и др.
[59] Архив ИВ АН РУз, Папка «‘П’, ‘Р’», л. 65 (копия диплома).
[60] Еще более мудреная классификация образования написана в «Личном листке» у одного из домулла ИВ Хакимджанова Юнуса: «Медресе (старометодное высшее учебное заведение, отделение гуманитарных наук)». Архив ИВ АН РУз, Папка «‘Х’», л. 1.
[61] Единственное исключение – свидетельство об окончании медресе, выданное А. Муродову, в котором перечислены предметы, которым он обучался в медресе. В частности, здесь, кроме предметов по грамматике и синтаксису арабского языка (сарф, нахв и др.), указаны теологические курсы (фикх, хадис, тафсир и др.). Однако названия предметов написаны в арабской графике и не переведены на русский. См. Архив ИВ АН РУз, Папка «‘М’», л. 73 (фото 4928).
[62] Вот, например, текст одного из них, в котором подтверждается «высшее духовное образование» А. Расулева: «Свидетельство. Абд ал-Фаттах Расулев, начиная с 1906 года, учился в ташкентском медресе (высшее учебное заведение старого типа) ‘Шайхантахур’ у мударриса Мулла Туляган Ахунда по существующему тогда методу и закончил медресе в 1917 году. Мы свидетельствуем по поводу этого факта, поскольку в это же время мы сами жили и учились в том же медресе. Подписали: Мулла Муслим Рахмджан о’гли, Шариф-хан Ма‘руф-ханов, Мулла Наки Ну‘манов. 5 марта, 1954 год». Текст написан на узбекском (арабским шрифтом) и затем был переведен на русский и заверен Ученым секретарем ИВ АН Уз ССР (см. фото № 4443. Архив ИВ АН РУЗ, Папка «‘П’, ‘Р’», Л. 35, 36).
[63] Khalid, Adeeb, 1998.
[64] Журнал “Haqīqat». С. 42-45, 46, 48-49.
[65] См., например: Фитрат, 1933. Три документа. С.70-73. Можно так же привести в пример почти все номера журнала «معارف و اوقوتگوچی» (Образование и учитель) за 1928 и 1929 годы, в которых регулярно появлялись статьи бухарского джадида Муссы Саиджанова, посвященные разным историческим темам. Правда, в них заметен критический взгляд на прошлое, однако «марксистская критика» ханских режимов еще не заметна.
[66] Это цитаты из его многочисленных брошюрок и книг с воспоминаниями о первых революционерах Ташкента и Средней Азии. Правда, Азиззода остается достаточно осторожным и нигде не говорит открыто о репрессиях, добавляя в конце биографий некоторых расстрелянных лиц обычную фразу «умер в 1937/38/39 году» (См., например: Азиззода. 1976. Янги ҳаёт. С. 11, 16 и дальше). Джуванмардиев в автобиографии пишет, что активно участвовал в становлении советской власти в Ферганской долине (см. приложение).
[67] В ИВ АН РУз до сих пор пересказывается курьезная история, связанная с тем как Л. Азиззода еще при жизни подготовил собственную могилу и сценарий своих похорон, во время которых должна была играть национальная музыка и русские (европейские) похоронные марши, произноситься речи над могилой и т.п. Азиззода лично определил состав Похоронной комиссии (обычно создаваемой при похоронах видных партийных и государственных чиновников), назначил председателя этой Комиссии, раздал им всем составленный им сценарий церемонии его погребения вместе с намогильными речами, записал на магнитофон музыку, которая должна будет сопровождать собственно похороны. Как говорили мне все мои интервьюёры, такое поведение «героя революции» не было проявлением старческих болезней. Ирония случая состояла даже не в том, что его своеобразная подготовка к собственным похоронам выдавала желание Азиззода остаться в истории даже самим фактом своей смерти. Двое его друзей, кого Азиззода уговорил стать Председателями Комиссий на его будущих похоронах и которые, как он полагал, переживут его, один за другим умерли раньше него. Усмотрев в этом «злой рок», никто из его близких не согласился стать «Председателем похоронной комиссии Азиззода». Ирония судьбы на этом не закончилась. Тщательная подготовка похорон оказалась напрасной, а судьба распорядилась иначе: после смерти, Азиззода был похоронен в обычном мусульманском стиле, с молитвой джаназа, без речей и музыки.
[68] Самый примечательный пример – книга А. Муродова (Ўрта Осиё хаттотлик тарихидан).
[69] Цитата из Отчета ИВ АН Уз ССР за 1951-1953 годы. Архив АН РУз, фонд 55, опись 2, документ 44, Л. 4.
[70] Hellbeck, 2006. Revolution. Р. 12-13. Правда, в своей книге Хельбек говорит преимущественно о раннем советском и сталинском времени. Более позднее советское время для него период «зрелого цинизма» или «двойственного языка». См.: Хельбек, 2002. «Советская субъективность», С. 402.
[71] По словам покойного К. Мунирова, он, будучи молодым аспирантом, застал домулла А. Муродова со слезами на глазах и с рукописью на руках. Муниров забеспокоился и спросил его, в чем дело и чем он может помочь. Муродов ответил: «Нам осталось сбежать только в рукопись от волнений этой жизни» (Bul hayotning tashvishlaridin shul qo’lyozmagha qochib qutulmoq qolgan bizlarga). Кажется, что это был момент активного преследования домулла.
[72] Использование работ «классиков марксизма» советскими марксистами и историками – это особая тема исследований. Хотя уже сейчас можно сказать, что часть условно «светских востоковедов» использовали марксистскую риторику для формулировки далеко немарксистских идей. Очень схожие наблюдения работ академических ученых сделано в сборнике: Антропология академической жизни: адаптивные процессы и адаптивные стратегии / Г. Комарова (отв. ред.). Москва: Институт этнологии и антропологии РАН, 2008.
[73] Конечно, это не умаляет научного значения названных работ сотрудников ИВ.
[74] В 1953 году началась работа над составлением 3-го тома знаменитого каталога «Собрание восточных рукописей АН Уз ССР», посвященный суфийским сочинениям и биографиям знаменитых мусульманских мистиков. Однако ИВ и Академия, после долгого обсуждения, не решились преодолеть идеологический запрет. В результате президент АН Узбекской ССР обратился к знаменитому академику АН Таджикской ССР (и члену ЦК КП(б) Таджикистана) Бободжану Гафурову с просьбой написать особое введение к тому, «в котором политически заостренно излагалась бы сущность суфизма» (Архив АН РУз, фонд 1, опись 1, документ 334, л. 39). За туманной фразой партийного вокабуляра («политически заостренно») крылась просьба представить критическую статью в отношении суфизма. Ответа Б. Гафурова в папке нет. По-видимому, он отказался, так как упомянутый том СВР вышел (1955) без его предисловия.
[75] В этом отношении показательно выступление доктора наук арабиста М. Салье, который начал работу над произведениями ал-Фараби (Архив АН РУз, фонд 55, опись 3, дело 27, л. 22, текст Протокола № 5 от 5 апреля 1951 года). М. Салье заявил, что он «дезориентирован заявлениями Райнова» (доцент Исторического факультета Университета). К товарищу Райнову обратился Отдел идеологической работы ЦК КП(б) Узбекистана с просьбой оценить наследие ал-Фараби на предмет возможного «возрождения его памяти как ученого-материалиста» и проведения его 1000-летнего юбилея. Однако в своей экспертной записке Райнов назвал ал-Фараби мистиком и предложил воздержаться от проведения его юбилея. М. Салье обвинил Райнова в некомпетентности, поскольку «эксперт не знает арабского (языка)» и «ориентировался на неправильные иностранные переводы». М. Салье заверил, что его перевод более корректный, и он позволяет по-другому оценить наследие ал-Фараби. Его поддержал В. Захидов. По словам А. Каюмова, до этого М. Салье получил устный выговор за то, что пытается возродить память ученого-мистика.
[76] См., например, протоколы ученых советов первых лет после публикации упомянутой статьи в газете «Правда»: Архив АН РУз, фонд 55, опись 3, дело 27.
[77] Именно так была названа статья академика Г. Гулома «Два востока» (Правда Востока, 15 апреля, № 88/7988, 1950). В ней он обрисовал положительные перемены в «социалистическом Востоке» и подчеркнул негативные последствия колонизации в «Зарубежном Востоке».
[78] Архив АН РУз, фонд 55, опись 3 дело 27, Л. 3, 8, 9 и дальше.
[79] Для этого достаточно посмотреть на работы востоковедов ИВ АН Уз ССР, начиная с 1950 и вплоть до начала 1970-х годов. Позже исследования обрели более прагматический и аналитический характер.
[80] Такие подходы и идеологические штампы имели еще одну цель. Важно было внушить объектам «социалистического рывка» из средневекового феодализма в социализм, что их «социалистический Восток» позитивный, правильный и процветающий. А зарубежный «Восток» неустойчивый, «угнетаемый», хотя уже готовый к потрясениям классовой и антиколониальной борьбы.
[81] Из архива картотеки Отдела кадров ИВ АН РУз. Архив Академии наук РУз, фонд 55, опись 2, дело 45.
[82] По рассказу А. Носирова, инициаторами перевода И. Одилова в Ташкент были А.А. Семенов, А.Э. Шмидт и Е.К. Бетгер, которые познакомились с ним и стилем его работы и описания источников еще в Самарканде. В том же 1960 году А.Э. Шмидт опубликовал статью про И. Одилова, в которой высоко отозвался о «товарище Одилове», как о неутомимом исследователе, знатоке рукописей, биографий их авторов и т.п. (Шмидт, 1935).
[83] До этого в первый раз книги с областей перевозились в 1924, 1928 и 1932 годах.
[84] Ранее «Альбом» хранился в библиотеке знаменитого кадия и библиофила Бухары Мухаммад-Шарифа Садр-и Зийа’, который оставил свой автограф по поводу самой рукописи на форзац-листе оригинальной рукописи (Муродов, 159). Чтение этих писем оказалось крайне сложным делом, поскольку в них отсутствовали диакритические точки. Позже часть писем (с переписанных обычным почерком текстов) были опубликованы А. Урунбаевым с переводом на русский язык (Урунбаев, 1982) и затем им же в сотрудничестве с Джо-Энн Гросс на английском языке (Jo-Ann Gross, Asom Urunbaev, 2002).
[85] В этой работе принимал участие другой старейший сотрудник ИВ из домулла А. Муродов (Муродов, 158).
[86] Ирисов, 52-53. Здесь приведена автобиография А. Расулова с перечислением учебников (фикх, калам, мистическая литература, арабский язык, коранистика и проч.) по которым занимались в мактабах и мадраса. Интересно, что эта автобиография (Ирисов, 52-55), написанная в 1962 году, составлена отнюдь не в советском стиле, а ее вокабуляр и стилистические штампы заимствованы из местной агиографической литературы (типа манакиб, макамат).
[87] Судя по кратким ремаркам самого А. Расулова, поначалу на курсах для подготовки учителей использовались некоторые учебники мадраса, например, учебник по математике Чахар ‘амал (Четыре [математических] действия), сборники стихов поэтов-мистиков (Бедил, Машраб и др.). См.: Ирисов, 53.
[88] Имеется в виду то, что А. Расулов оказался в составе «класса трудящихся», что в известной степени гарантировало от репрессий.
[89] См., например, его предисловие к узбекскому переводу ал-Бируни: Abu Raykhon Beruniy (973-1048), 1968, 34-35.
[90] Правда, в своей биографии А. Муродов написал более осторожную фразу: «Keyin suriyalik adib va olim Muhammad ibn Sa‘id al-‘Asaliydan arab tili va adabiyotini o’rgandim» («Затем обучался арабскому языку и литературе у сирийского литератора и ученого Мухаммада ибн Са‘ид ал-‘Асали»). См.: Муродов, 1971, 160. Естественно, в своей публикации А. Муродов не мог открыто писать о курсах по хадисам. Обращает на себя внимание презентация Шами-домулла (см. следующее примечание) как «литератора и ученого». В этом можно усмотреть не только сознательное сокрытие А. Муродовым действительного статуса и рода деятельности репрессированного мухаддиса, но и попытку реабилитировать своего учителя.
[91] Основатель группы «Ахл-и хадис» в Ташкенте (1919 – конец 1920-х гг.). Позже богословская позиция «Ахл-и хадис» станет основой в идеологии т.н. «ваххабитов». Полно его имя – Са‘ид Мухаммад ибн Мухаммад ибн ‘Абд ал-Вахид ибн ‘Али ал-‘Асали ат-Тараблуси аш-Шами ад-Димашки (ум. в 1932 г. в Хорезме). В среде местных богословов старшего поколения (в советское время) известен как Шами-домулла. См. подробней: An Islamic Biographical Dictionary, 70, 148; Muminov A., 2005; Диспуты мусульманских религиозных авторитетов, 2007, 57-61. Шами-дамулла был учителем многих знатоков арабского языка в Ташкенте (Ирисов. С. 11).
[92] Muminov A., 2005, 244; Он же. Предисловие к «Диспуты», 2007, 60.
[93] Muminov, 2005, 245.
[94] А. Каюмов полагает, что Хакимджанов Юнус был направлен в Китай органами ГПУ в составе многочисленных «вынужденных эмигрантов», на которых возлагалась обязанность помощи китайским революционерам против гоминдановцев.
[95] Их список Джуванмардиев привел в «Личном листке»: Архив ИВ АН РУз, ‘Д’ – ‘Н’, Л. 7-8.
[96] То есть с вооруженными отрядами, выступавшими против Советской власти.
[97] Автобиография А. Джуванмардиева. Архив ИВ АН РУз, ‘Д’– ‘Н’, Л. 6. Паранджа (чачван) – вид хиджаба в Туркестане, полностью закрывающее лицо и тело женщины.
[98] Там же, Л. 13.
[99] О своем аресте он упомянул только однажды в автобиографии (написана на узбекском языке принятым тогда латинским шрифтом). Архив АН РУз, фонд 55, опись 3, дело 107, Л. 33 (Личное дело Насирова Абдуллы). В более поздних автобиографиях эпизод с арестом не упомянут. Там же, Л. 17 и дальше.
[100] Там же (машинописный лист «Автобиографии» без пагинации).
Бабаджанов Б.М.