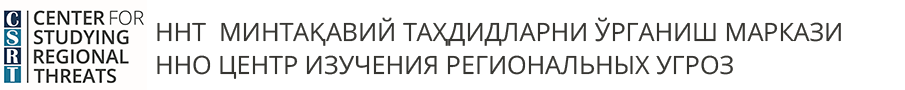Центр евразийских исследований #СПбГУ, Центр евроазиатских исследований ИМИ #МГИМО и Информационно-аналитический центр Ia-centr провели очередной ситуационный анализ на тему «Экстремизм и терроризм в Центральной Азии: что не так в способах противодействия». Подробнее — в материале ia-centr.ru.

В дискуссии приняли участие Сайеде Мотахаре Хоссейни, доцент кафедры политологии Университета Пайам Нур из Ирана, эксперты Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» из г. Уфы А. Р. Сулейманов и А. В. Чекрыжов, эксперты Центра изучения региональных угроз из Ташкента Д. Р. Пирмухамедов и Р. С. Якубжанов, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Р. Р. Назаров, директор Таврического информационно-аналитического центра из г. Симферополя А. В. Бедрицкий, научный сотрудник ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова и руководитель проектов Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Д. В. Сапрынская, шеф-редактор и создатель интернет-портала Antiterror Today О. А. Столповский из г. Воронежа, заведующий кафедрой МЭМОиП НГУЭУ и руководитель Сибирского общества международных исследований из г. Новосибирска Д. А. Борисов, М. О. Дмитриева — доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета из г. Владивостока.
Инициатор ситуационных анализов и модератор дискуссии — ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России и профессор СПбГУ А. А. Князев, открывая дискуссию, уточнил: «Наше обсуждение никоим образом не ставит перед собой цель подвергнуть критике тех, кто по долгу своей работы и службы профессионально занимается антитеррором или дать им какие-то советы. Хотя и среди наших участников есть те, кто длительное время занимался именно этим и имеет соответствующий опыт, который в сочетании с мнениями остальных участников, занимающихся изучением региона, позволит создать срез экспертных мнений, который может иметь значение как часть значительно более широкой картины того, что называется терроризмом, экстремизмом, и того, что относится к сфере противодействия этим явлениям… Вот буквально сегодня появилась информация о том, что за прошлый год в странах ШОС был предотвращен 181 террористический акт. Но в то же время мы знаем, к сожалению, и примеры террористических актов, которые не были предотвращены. Понятно, что сейчас происходит трансформация террористической активности на фоне текущего геополитического противостояния, терроризм — это всё-таки производное от политики, это инструмент. Существует ли необходимость обновления средств и методов антитеррора? Есть ли какие-то модели совершенствования антитеррористической и антиэкстремистской деятельности? Каково соотношение внутренних и внешних причин терроризма?»
В зеркале компаративного анализа
Доктор Сайеде Мотахаре Хоссейни согласилась с тем, что «основная причина существования террористических угроз в Центральной Азии исходит из геополитических изменений в глобальном масштабе, в мире, а также внутри этого региона». По ее мнению, «основные источники изменений в деятельности террористических групп в регионе находятся в соседнем Афганистане и на Ближнем Востоке и связано это в основном с деятельностью т. н. «Исламского государства», известного в регионе уже десять лет и оказывающего сильное влияние на террористическую обстановку в Центрально-Азиатском регионе. Поэтому необходимо изучать, во-первых, геополитические и глобальные процессы, которые происходят вокруг нас, а во-вторых, обратить внимание на внешнюю политику каждого государства в регионе и за его пределами. И на то, как они вообще воспринимают такие понятия, как терроризм, радикализм и борьба с терроризмом. И здесь получается разнообразная и во многом противоречивая картина, поскольку понимание каждой страны сильно отличается от другой страны региона».
Это мнение вызвало ряд оценок, выстраиваемых в парадигме сравнительного анализа. Так, Денис Борисов уверен, что «подверженность терроризму и экстремизму напрямую зависит от состояния социально-экономической и общественно-политической обстановки в странах Центральной Азии. Причём здесь важно обратить внимание не просто на бедность (есть у нас поговорка «Бедность не порок»), а важно именно падение социального уровня жизни в странах региона. Соответственно, там, где наиболее серьезно это падение, там выше вероятность проявления террористических и экстремистских настроений. С этой точки зрения важно посмотреть на стабильность социально-экономических моделей, которые реализуются сегодня в странах Центральной Азии. Здесь мы видим, что в Туркменистане и Узбекистане наметился достаточно устойчивый кратко- и среднесрочный экономический рост, и в этом плане угроза экстремизма и терроризма менее вероятна. Если говорить о Казахстане, то попытки совершения государственного переворота в 2022 году — это как раз последствия нисходящей тенденции в социально-экономическом развитии, и сегодня мы видим, что Казахстан вышел на неуверенную модель социально-экономического роста. В этом плане угрозу в Казахстане можно оценить как среднюю. Киргизия и Таджикистан находятся примерно на одном уровне социально-экономического развития, у них очень слабые экономические модели и, соответственно, низкие уровни социально-экономической жизни. Правда, ситуация в Киргизии в значительной мере компенсируется участием в Евразийском экономическом союзе и возможностью экспорта свободных рабочих рук в Россию. Плюс участие в едином таможенном пространстве позволяет налаживать кооперационные связи, которые также компенсируют изъяны в социально-экономическом развитии. Таджикистан ведет более автономную социально-экономическую политику, не вступает ни в какие экономические блоки. Последнее давление на рынок труда, связанное с терактом в «Крокус Сити Холле», резко повышает напряженность в социально-экономической ситуации».
С мнением Дениса Борисова во многом согласилась и Сайеде Мотахаре Хоссейни: «Важно обращать внимание не столько на Афганистан, основное внимание надо сосредоточить на положении внутри Таджикистана не только в социально-экономическом отношении. Там есть и другие вопросы: как быть с религией, как бороться против терроризма… Сравнивая положение в Таджикистане и Киргизии, нельзя не заметить, что в Киргизии более свободная обстановка, там действуют разные политические группировки, религиозные группировки, там более свободное пространство для роста их влияния. В Таджикистане в условиях кризиса население, особенно молодое поколение, более активно примыкает к этим [нелегальным экстремистским] группировкам. В Казахстане в некоторых регионах есть активность радикальных группировок, но их пока удается держать под контролем. С Туркменистаном всё понятно, страна очень закрытая, проникновение туда различных идей контролируется со стороны спецслужб. В Узбекистане после проведения реформ и изменений в религиозной обстановке ситуация улучшилась. Но всё-таки Таджикистан не столь сильное государство, как Казахстан, не очень свободное, как Киргизия, не так сильно закрыто, как Туркменистан, и в вопросах религиозных свобод сильно отстает от Узбекистана».
Базисы и надстройки
Джахонгир Пирмухамедов: «В последние годы в Узбекистане отмечается заметный рост религиозного фона. Часть молодежи, попадая под влияние проповедников-самозванцев, а другая — пытаясь соответствовать веяньям моды, облачаются в т. н. «религиозные» одеяния, нетрадиционные для нашего региона, отращивают бороды, обосновывают это религиозными требованиями. В традиционном для нашего региона умеренном направлении учения в Исламе (ханафитский мазхаб) семейные, национальные обычаи, торжества и события не запрещались религией. Сегодня же заметно усиливается влияния нетрадиционных для нашего региона учений, я бы сказал более радикальных, требующих неукоснительного следования шариату. В итоге все светские, национальные праздники и традиции сейчас как бы попадают под религиозный запрет. Фактически происходит переход от умеренного и традиционного для Средней Азии ислама к более радикальному, нетерпимому к каким-либо отклонениям от норм шариата. К примеру, уже многие семьи не отмечают такие праздники, как Новый год, дни рождения, национальные традиции также подпадают под запрет. Естественно, те, кто отмечает такие праздники и продолжает придерживаться национальных традиций, подвергаются критике, что приводит к расколу в обществе, а зачастую и в семьях между старшим и молодым поколениями. Это уже первые шаги к радикализации молодежи и общества в целом.
К тому же в такой среде активно идет процесс роста нетерпимости к людям и семьям, продолжающим придерживаться старых традиций и обрядов. Эта нетерпимость уже начинает выражаться не только в семейных отношениях, но и по отношению к другим религиям, социальным группам, национальностям. Что вызывает особую озабоченность. Точка невозврата еще не пройдена, но единственное, что сейчас является мощным сдерживающим фактором, — это грамотная политика государства в сфере религии. Например, открытие официальных религиозных учебных курсов для желающих. Имамы в мечетях должны иметь высшее религиозное образование, т. е. без религиозного образования имамом, как в Киргизии или Таджикистане, у нас стать невозможно. Проводятся профилактические мероприятия, направленные на пресечение распространения радикальных идей и т. д.
Однако уязвимым местом остается глобальная сеть, где активно действуют самозваные имамы, проповедники, «знатоки религии», преобладающее большинство которых — недоучки, толкующие свое, зачастую искаженное, видение религии, при этом часть из них является эмиссарами различного рода религиозно-экстремистских и террористических организаций. Пока серьезных радикальных призывов не отмечается, но процесс радикализации постепенно идет.
Чтобы противостоять этим процессам, необходимо наращивать наш потенциал в сети Интернет, увеличивать количество специалистов, способных грамотно противодействовать распространению идей экстремизма и терроризма в Сети, потому что в самом обществе на территории Узбекистана такую пропаганду не проводят. Просто так сложилось, что мы очень сильно сдали позиции в сети Интернет: несколько лжепроповедников спокойно держат многотысячную аудиторию, а с нашей стороны противодействие оказывается неэффективным. Я полагаю, что если мы активно начнем наращивать свой потенциал в Сети, то это позволит эффективно противостоять процессам радикализации и распространения идеологии экстремистов и террористов в Сети».
Равшан Назаров: «Во мне говорит мое длительное марксистское образование, но я как-то привык, что экономика первична, понимаете, то есть идеология, культура, религия — всё это надстройки. Четырнадцатый ребенок в семье нищего арабского феллаха — он никому с момента рождения даже в своей семье не нужен, естественно, он не нужен ни государству, ни человечеству в целом. Человек с таким бэкграундом — очень легкая мишень для того, чтобы завербовать его в любую экстремистскую организацию, где у него появится хотя бы какая-то видимость смысла жизни». Александр Бедрицкий продолжил: «Безусловно, базу для терроризма создает низкий социальный статус. Вторым фактором являются радикальные идеологии, не терпящие каких-то традиционных подходов. К этому еще следует добавить, как правило, низкий образовательный ценз тех, кто составляет вербовочную базу для исполнителей терактов. Без него либо при внедрении в образовательные программы каких-либо новых националистических нарративов, допустим, тезисов колонизации, общая радикализация таких неимущих, радикализированных и малообразованных слоев будет возрастать». Равшан Назаров: «Когда говорят о том, что среди террористов есть чуть ли не выпускники Гарварда или Кембриджа, — это о тех, кто дергает за веревочки. А есть массовое «пушечное мясо», порожденное социально-экономической ситуацией. Неблагополучная социально-экономическая ситуация и есть весьма питательная среда для роста терроризма. Поэтому так легко находить исполнителей для любых террористических акций в странах со сложным социально-экономическим положением. Вы попробуйте нанять десяток голландцев или норвежцев, это будет намного дороже. Вместо одного выходца из Западной Европы на эти деньги в неблагоприятных регионах вы можете нанять роту исполнителей».
Инструмент гибридной войны
Александр Бедрицкий: «Однако при всём при том мы обсуждаем проблему более широкую, чем терроризм. И следует вычленить две составляющие: внутреннюю и внешнюю. С одной стороны, рост радикализированной массы угрожает дестабилизацией ситуации в центральноазиатских странах, далеко не всегда выливающейся в формы террора. С другой — те же самые люди, выезжающие на заработки за рубеж, могут использоваться для совершения терактов там. Характерный пример — «Крокус Сити». И раз уже зашла речь об этом акте массового террора, необходимо не только сосредоточиться на его непосредственных исполнителях, но и понимать, кто именно был его выгодоприобретателем. Да, исполнители теракта — это таджики, это установлено. Да, вероятнее всего, они выходцы из малоимущих семей. Да, их образовательный ценз невысок, да, видимо, они сторонники радикальных течений. Но в данном случае эти факторы только облегчили работу по вербовке исполнителей, в то время как выгодоприобретатель был совершенно другой.
Ну и наконец, радикализация общества — а это гораздо шире, чем проблематика терроризма, хотя и тесно связана с ним — ставит на повестку дня вопрос об обострении межгосударственных отношений в самой Центральной Азии. В этом ряду можно упомянуть сравнительно недавние боевые действия между Таджикистаном и Киргизией в Баткенской области. В Узбекистане в Бухарской и Самаркандской областях велика доля таджикского населения, которое пока лояльно по отношению к государству, но это не снимает вопроса межнациональных и межконфессиональных противоречий, есть автономная республика Каракалпакстан, где обострились протесты при обсуждении конституционной реформы в Узбекистане. Всё это тоже может стать причиной дестабилизации государств. Ну и наконец, проблемы внутренней миграции: оралманы, выехавшие из Туркменистана, из Каракалпакстана РУз, возвращаются в Казахстан, где они не вполне вписываются в казахстанский социум, где они, как правило, становятся деклассированным элементом, и их концентрация приводит к тому, что происходят уже и конфликты, в том числе и внутри самого казахского этноса. Схожие процессы происходят и в Киргизии, где выходцы из бедных сельских районов постепенно привносят в Бишкек свои порядки. Иными словами, проблему радикализации, роста национализма и, как следствие, террористической угрозы надо рассматривать в комплексе».
«С какой целью устраиваются теракты? — задался вопросом Равшан Назаров. — Например, для того чтобы вызвать антимиграционную истерию в тех странах, где это происходит, чтобы выдавить мигрантов обратно, а это уже огнеопасная смесь. Меня несколько удивило что кукловоды террористического акта в «Крокус Сити Холле» ограничились только выходцами из Таджикистана, надо было сделать «сборную солянку»: узбеки, киргизы, арабы, афганцы, чтобы полностью убить отношения между Россией и мусульманским миром. Негативные тенденции уже есть. Например, в Узбекистан за короткий период около 100 тысяч человек уже вернулись, хотя в Узбекистане нет такого количества рабочих мест, чтобы размещать всех потенциальных возвращенцев. При этом мигранты меньше всего заинтересованы в том, чтобы светиться в такого рода актах. Чтобы массы мигрантов по возможности вернулись в свои страны и, конечно, это был бы удар по социально-экономическому развитию России, потому что так можно лишить ее необходимых рабочих рук. Поэтому те в России, кто ввязался в эту антимигрантскую истерию, они на самом деле в результате льют воду на мельницу врагов и России, и стран Центральной Азии».
Сайеде Мотахаре Хоссейни: «Сейчас Запад всеми силами старается создать зону конфликтов в регионе, где лидируют Россия и Китай. В основном антироссийскую и антикитайскую политику в регионе ведут США, ЕС никакой самостоятельной политики не ведет, он просто выполняет то, что диктуют из Вашингтона. Если взять политику Великобритании, то в последнее время они очень активизировались, британцы более самостоятельны, в каких-то моментах они стараются противостоять интересам США…. Основной стержень политики Турции, Индии, Пакистана, Ирана — это обеспечение безопасности внутри своей страны и недопущение появления радикальных группировок. В этой обстановке, чтобы сохранился мир и безопасность, очень важно, чтобы страны региона, возможно, страны ШОС, координировали свою политику…». «Безусловно, можно согласиться с тем, что рост эскалации и напряжения между крупными державами будет провоцировать использование терроризма в качестве внешнеполитического инструмента давления», — подвел итог своим тезисом Денис Борисов.
Свобода доступа к информации: возможности ШОС и опыт Китая
Артур Сулейманов: «Обращу внимание на тезис, который сегодня прозвучал от иранской коллеги Сайеде Мотахаре Хоссейни по поводу того, что ШОС сегодня имеет, наверное, очень важный потенциал в решении проблем противодействия международной безопасности. Ровно год назад Иран стал полноправным членом ШОС, что действительно заметно укрепляет региональную конфигурацию. Тот факт, что в рамках ШОС будет создан специальный центр по предотвращению внешних вызовов и угроз, означает понимание того, что решить проблему международного терроризма и экстремизма, не подключая союзников, партнеров, становится сложнее, и поэтому такая конфигурация, как ШОС, действительно может внести свой вклад в борьбу с экстремизмом и терроризмом. Напомню, что именно ШОС еще в 2001 году одна из первых приняла конвенцию по противодействию трем «источникам зла». И, наверное, нам стоит обратиться к этой концепции, но уже в современной интерпретации, и рассмотреть те вызовы, которые сегодня есть.
Один, наверное, из самых важных вызовов, который сегодня стоит перед Центральной Азией, — это попытки Запада обосновать не только свою «мягкую силу», но и военное присутствие в регионе для того, чтобы оттеснить Россию, оттеснить Китай. И для этого будут использоваться всевозможные ресурсы, всевозможные поводы, в том числе и ситуация в Афганистане. Неспроста сегодня проходят тоже довольно сложные процессы на Кавказе с участием Армении, мы видим, что предпринимаются попытки дискредитировать Россию, и я боюсь, что Запад пойдет на такие вещи уже и в рамках Центральной Азии…
В основе главной формулы противодействия международному экстремизму и терроризму должен стать принцип неделимости безопасности, о котором в последние 5–7 лет руководство Российской Федерации неоднократно говорило на самых разных уровнях. Принцип неделимости — это принцип и гарантия безопасности Евразии. Принцип неделимости безопасности подразумевает взаимное уважение суверенитета государств, невмешательство во внутренние дела и динамичное взаимовыгодное развитие и сотрудничество. Если обратить внимание на последнюю частоту проведения всевозможных консультаций по линии МИДов, по линии министров обороны, то в последнее время в Москве, Астане, Ташкенте и в других городах проходят консультации, которых, по-моему, очень много. Это говорит о том, что сегодня, на самом деле, к вызовам внешним, потому что могут активизироваться новые угрозы террористическо-экстремистские, в наших странах относятся очень-очень серьезно. И есть большие надежды на Астанинский саммит, который пройдет как раз летом 2024 года, и на этом саммите, возможно, будет принята стратегия развития ШОС на ближайшие 10 лет, до 2035 года. И если предыдущая стратегия развития ШОС, которая принималась, кстати говоря, в Уфе в 2015 году, она учитывала интересы шести стран, то будущая стратегия должна учитывать уже интересы 26 государств, это включая страны-наблюдатели и партнеров по диалогу.
Хотелось бы обратить внимание еще на два важных момента. Первый — религиозное образование, было бы неплохо в рамках ШОС создать какой-то общий центр по религиозному образованию. Мусульмане России, стран Центральной Азии имеют очень много общего. Ташкент, Астана, Уфа, Казань могли бы стать такими центрами протяжения по общим программам, по общим каким-то стандартам, принятым, например, в формате СНГ, могли бы готовиться священнослужители. Второй момент — коммуникация с молодежью. Как сегодня уже отмечали многие коллеги, молодежь, которая погружена в виртуальное пространство, в интернет, является наиболее уязвимой для вербовки. И здесь, возможно, был бы полезен опыт изучения киберпространства, регулирования в сфере интернета, например, Китая…».
Олег Столповский: «Мы должны быть готовы пожертвовать неограниченной свободой доступа к информации, но этим должны заниматься, в первую очередь соответствующие специальные службы, которые имеют технические возможности и соответствующие правовые полномочия. Упор в этом, конечно, должен делаться на деятельность правоохранительных органов и специальных служб. И в первую очередь необходимо, наверное, проникновение в те или иные группы в соцсетях, нужна активизация, так сказать, агентурно-оперативной деятельности в этом направлении».
Денис Борисов: «Это важный момент: контроль за каналами распространения информации должен находиться на стороне государств на всём Евразийском пространстве. Считаю очень серьезной угрозой распространение альтернативных каналов связи в виде спутников интернета, которые не находятся под контролем государства на территории стран Центральной Азии, сегодня мы это видим, например, в Казахстане. И необходимо нормативно-правовое регулирование антитеррористической деятельности, важна его унификация на всём Евразийском пространстве. Очень важно четко определить юридически, что такое терроризм и экстремизм, унифицировать их. Ну и важно формировать соответствующие молодежные движения, которые будут на пространственном уровне заниматься сотрудничеством, которые будут формировать позитивный образ развития».
«Талибан» и борьба с терроризмом
Олег Столповский: Уважаемая доктор Сайеде Мотахари Хоссейни, наша иранская коллега, в качестве географических источников распространения терроризма в регионе Центральной Азии упомянула Ближний Восток и Афганистан. Я остановлюсь на Афганистане. К сожалению, приходится констатировать, что афганская территория по-прежнему остается местом пребывания различных международных террористических организаций. Но в экспертной среде бытует такое мнение, что это явление связывается с приходом к власти в стране движения «Талибан». Я считаю, что талибы, придя к власти в стране, именно они способны навести в стране порядок, в том числе и ликвидировать вот этот очаг напряженности, которым сейчас все представляют Афганистан. Многие даже ставят под сомнение, что нынешняя талибская администрация ведет непримиримую борьбу в первую очередь с тем же «Вилаятом Хорасан». Мне кажется, нужно более тесное сотрудничество с администрацией талибов по нормализации обстановки в Афганистане, в первую очередь социально-экономической, из-за которой по-прежнему территория Афганистана во многом продолжает оставаться местом пребывания или местом убежища террористических группировок. Многим могут не нравиться те методы, которые практикуются в государственном управлении администрации движения талибов. Но давайте исходить из того, что каждый государственный режим, находящийся у власти в стране, имеет право действовать, исходя из исторических и социальных базовых моментов своей страны.
Горько наблюдать, когда на различного рода мероприятиях, в том числе официального уровня, типа заседаний ОДКБ или по линии ШОС, Афганистан продолжают квалифицировать как источник распространения терроризма, но в меньшей степени обсуждают вопросы, как бы нормализовать ситуацию в Афганистане. Или как проводить согласованную политику помощи с тем, чтобы эта администрация укрепилась и вела борьбу в контексте своей государственной политики против тех, кого мы называем международными террористическими группировками».
С этим мнением солидарна и Сайеде Мотахари Хоссейни: «Мы должны признать, что «Талибан» со всеми их методами управления страной добились положительных результатов в установлении безопасности, многие вопросы они стараются решать сейчас, и надеюсь, что с помощью скоординированных действий стран региона — например, в рамках ШОС, о чём мы говорили, — они установят в Афганистане безопасность и искоренят оплот терроризма».