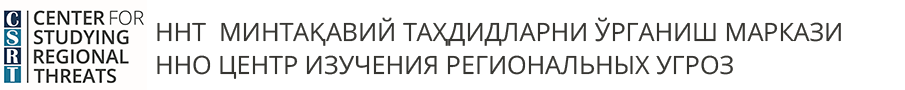Резкая политизация ислама перед развалом СССР, и особенно в первые годы независимости, последовавшая затем радикализация поставили вопрос о том, как предотвратить эти процессы. Особенно множество проблем в этой связи возникло в бывших кавказских и средне/центральноазиатских республиках. Политики, журналисты, и даже некоторые специалисты выдвигают свои предложения по этому поводу и ставят в связи с этим соответствующие вопросы. Можно ли в самом исламе найти приемлемые и не воинственные формы его существования? Есть ли альтернатива политическому исламу? Или, как спрашивает один из журналистов – «Может ли возрожденный суфизм стать какой-нибудь новой “идеологией” и могучей преградой международному терроризму»?[1]
Однако, проблема даже не в том, каким образом собираются воплотить в жизнь мусульманской общины «суфийские ценности» их горячие поклонники, а скорее в том, что активность в пропаганде «суфийской альтернативы» обратно пропорциональна действительному пониманию суфизма вообще и знанию его истории. Иными словами, пробудившийся у интеллигенции (особенно в странах ЦА) интерес к религиозному и в целом к культурному наследию в период развала СССР и началом независимости, отнюдь не означал, что они начали сразу его понимать и обладать исчерпывающей информацией об этом самом наследии. В умах большинства местной интеллигенции царило (и еще долго будет царить) советское понимание истории и, тем более истории религии.
Отсутствие подготовленных исламоведов и специалистов по мусульманскому мистицизму тоже отрицательно сказалось на оценке места и роли суфизма в истории региона. Толкования же морально-этических или философских положений суфизма было и остается здесь на совершенно непрофессиональном (а нередко просто на примитивном) уровне. Это еще больше удаляет нас как от понимания суфизма в его локальных формах, так и от возможных прогнозов будущего возрождающихся в современной ЦА суфийских братств. Особенно интересно восприятие суфийского лидера в качестве «наставника султанов». Такой статус шайха-суфия (то есть фактически в качестве политического лидера) ясно вырисовывается в издаваемой ныне в Узбекистане и в некоторых соседних странах суфийской литературе (особенно накшбандийской), что, по моим наблюдениям, вызывает совершенно недвусмысленные ассоциации у большинства читателей. Во всяком случае, перечисленные обстоятельства указывают на актуальность исследований суфизма, особенно в смысле необходимости иметь наиболее ясную историческую перспективу для прогнозов на будущее.
В этой связи мне хотелось бы предложить к рассмотрению два взаимосвязанных вопроса. Во-первых, здесь предлагаются некоторые аргументы, которые, я надеюсь, должны предупредить от упомянутых попыток поспешного и непрофессионального обращения к суфийскому наследию в качестве альтернативы («заслона») терроризму. Во-вторых, возрождение суфизма ставит вопрос о статусе лидеров братств, которые в настоящее время набирают авторитет, а некоторые из них[2] в начале 90-х годов прошлого века в той или иной степени проявили политическую активность. При этом аргументы «мирской активности» были заимствованы из средневековой агиографической литературы, прежде всего знаменитых сентенций Хваджа Ахрара (ум. в 1490). Следовательно, последний и поныне сохраняет свой символический статус, сочетавшего в себе авторитет и политического лидера и главы братства. Полагаю, что такая постановка проблем актуальна, прежде всего в тех странах, где суфийское наследие (точнее, его внешняя риторика) используется для создания «новой идеологии», а возможные пути развития возрождающих свою деятельность суфийских братств на официальном уровне не обсуждаются.
В качестве примера я беру современный Узбекистан, где суфизм объявлен «Золотым наследием» (Олтин мерос), а средневековая суфийская риторика используется в пропаганде, в создании «идеологических клише», активно переводятся сочинения суфийских лидеров, проводятся пышные юбилеи в честь их дней рождения, отмечаются иные «круглые даты», связанные с деятельностью и жизнью знаменитых суфиев. Особое внимание я обращаю на фигуру Хваджа Ахрара, деятельность которого среди многих мусульман региона была и остается символической, в смысле «справедливого защитника бедных» (нечто вроде суфийского Робин Гуда), который всегда готов повергнуть любого правителя ради защиты шари‘ата. Его могила (селение Хваджа-йи Кафшир — в 4 км. к востоку от Самарканда) во все времена является наиболее популярным объектом паломничества. И весьма символично, что мечеть у этой могилы при советской власти не закрывалась из опасения вызвать беспорядки.[3] И, наконец, следует иметь в виду, что нынешние официальные власти Узбекистана тоже учли значительный авторитет Хваджа Ахрара. Так, в 2004 году в Самарканде были проведены очередные официальные юбилейные мероприятия, посвященные памяти Хваджа Ахрара.[4]
Суфизм против терроризма?
Параллельно росту интереса к истории и теории суфизма, наблюдается возрождение деятельности суфийских братств (чаще всего лишь в форме освоения ритуальной практики). На этом фоне среди некоторых политиков и исследователей в большинстве стран ЦА постепенно формируется мысль, что суфизм действительно наиболее приемлемая альтернатива радикальному исламу.
Если говорить о возрождении суфизма как о возможном способе противостояния идеологии насилия и терроризма, то необходимо уточнить, о каком суфизме идет речь. Большинство политиков или журналистов, кто активно поддерживает идею о возрождении суфизма в исламских социумах, как альтернативы политического ислама и «преграды терроризму», апеллируют к тому «идеальному» суфизму, который изложен в высокоинтеллектуальных мистико-философских трудах выдающихся суфийских шайхов. Между тем, нелишне напомнить следующие обстоятельства.
Многие современные исследователи суфизма, говоря о его популярности и жизнеспособности, отмечали, что мусульманское богословие и законоведение (ал-фикх) всегда склонны замыкаться в своих утонченных изысках и книжной учености, отрываясь, таким образом, от повседневных проблем общины верующих. Простые же верующие, лишенные доступа к элитарному религиозному образованию, часто перестают понимать своих духовных руководителей и ищут себе своих идолов и кумиров среди тех, кто ближе к их запросам, к их жизни, к их проблемам. Именно идейная гибкость большинства суфийских лидеров, с их легкой адаптацией к духовным и прочим запросам простых верующих, позволила суфизму, вопреки ригористическим наставлениям первоучителей, становиться со временем более открытыми к простым верующим, приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям.[5]
Однако, этот же процесс повторяется и в самом суфизме. Едва ли не с самого зарождения суфизма выделяются преимущественно две его формы существования: «книжный», «теоретический», «интеллектуальный» с одной стороны, с другой – так сказать, суфизм, практикуемый среди простых верующих. Последние не всегда воспринимают высокоинтеллектуальные изыски «теоретиков» и вполне удовлетворяются освоением ритуальной практики, или находя в общинно-ритуальной интеграции братств опору и душевное равновесие на фоне крайне сложной жизни (безработица, трудности в поисках заработка и пр.).[6]
В истории ислама этот самый «интеллектуальный суфизм» явление крайне редкое и связан с деятельностью и творчеством относительно небольшого числа столпов, чьи труды стали источником исследований множества ученых Нового времени и современности.[7] Сотни тысяч изданных научных и научно-популярных трудов о суфизме и адаптированных переводов суфийских сочинений в целом сформировали мнение о нем как об исключительно мистико-философском течении в исламе. Однако, специалистам хорошо известно, что собственно с момента появления в суфийских братствах первых организационных форм (ханаках, заввийа, теке и др.) суфизм обрел все признаки социального движения, вовлекая в свои ряды людей из разных слоев средневековых социумов. И естественным этапом в развитии суфизма с этого момента стало вовлечение братств и их лидеров в политическую жизнь.
Хотелось бы предупредить, что я не отрицаю преимущественную толерантность, миролюбие основного числа современных суфиев в регионе ЦА. Но в контексте прогнозов на будущее, проблема не в том, что «настоящий» суфизм в целом это не политическое движение и у него цели другие. По заключению множества исследователей история суфизма показывает нам самую разнообразную форму его проявлений – и в качестве ревнителя «правоверия», и в качестве своеобразного новаторства. Кроме этических норм, нравственного очищения и прочего, к чему призывает суфизм, суфийские ордена – это еще и религиозная организация. К тому же, большинство современных суфийских групп в ЦА уже обрели иерархическую организационную структуру. То есть, у них есть лидеры и за их место идет борьба и т.д. А опыт исследования истории суфийских братств показывает, что как в исторической перспективе, так и в современном мире, следующим шагом большинства подобных братств становится вовлечение в политику. И тем более, речь идет о таких политизированных еще с 15-го века братствах как Накшбандийа и Кадирийа (напоминаем Кавказ, ЦА, Турцию, Кашгар и т.д.); биографии их многочисленных лидеров являют собой, скорее, примеры жизнеописания политических лидеров, кто вовлекался в политику во имя того, чтобы сделать шари‘ат единственным законом в жизни государства.
Кроме того, в настоящее время в регионе ЦА мы имеем дело с первой генерацией суфийских лидеров, кто еще помнит ужасы атеистической политики, и предпочитают делать эмфазис на своих традиционных ритуалах. Однако, учитывая описанный выше исторический опыт (как отдалённый, так и недавний), актуальным становится вопрос: как поведет себя второе или третье поколение суфиев в смысле вовлечения в политику?
Ответ на эти вопросы будет зависеть от множества обстоятельств, и, прежде всего, от динамики религиозной ситуации в целом, которая, в свою очередь, тоже во многом зависима от ситуации в экономике, государственной политики и т.п.
Учитывая все сказанное, мы полагаем, что абсолютизировать значение суфизма в качестве «заслона терроризму» не следует, хотя бы потому, что эволюция суфизма не исключает его потенциальную возможность вылиться в политическое движение. И тем более не исключено, что обоснование своей политической деятельности и соответствующие «политические ориентиры» суфийские лидеры начнут искать в истории своего братства. И, как сказано, основной фигурой, которая стала в этом смысле символической, стал образ Хваджа Ахрара, запечатленный как в агиографии, так и устной традиции.
О политической деятельности Хваджа Ахрара.
Сказанное выше побуждает ограничиться рассмотрением только одной (однако, едва ли не самой главной) стороны деятельности Хваджа Ахрара – его действиях и мотивах в качестве политического лидера своей эпохи, о чем в его житиях, нарративных источниках и письмах мы находим множество сведений. Я стараюсь сохранить объективность и предлагаю свои рассуждения исключительно с опорой на источники. Они достаточно хорошо известны и давно находятся в научном обороте, так что нет нужды лишний раз их анализировать.
Здесь, естественно, учитывается разница между источниками разного жанра, например, между письмами и агиографией. В последней мы преимущественно видим Хваджа Ахрара весьма решительным и жёстким в своих взаимоотношениях с правителями. Письма же нам дают несколько иную картину этих взаимоотношений (более взвешенных и корректных), по крайней мере, на тот момент, когда было написано конкретное письмо. Это же, с известными оговорками, можно сказать и о нарративной исторической традиции.[8] Поэтому здесь я попытаюсь представить лишь тот образ Хваджа Ахрара в качестве политического деятеля, который рисуется в некоторых агиографических сочинениях; тем более, что два других вида источников изучены достаточно полно. Эта моя цель стимулирована следующими обстоятельствами. Судя по тому громадному количеству дошедших до нас агиографических (и, прежде всего, накшбандийских) источников, в сотни раз превосходящих по количеству другие названные рукописи, можно заключить, что именно агиография формировала, так сказать, общественное мнение и представления большинства населения о суфийском шайхе, о его роли и месте в истории, в том числе и о специфике взаимоотношений «государство — религиозный деятель».[9] Это видно и по тому, что выдающаяся и бескомпромиссная позиция Хваджа Ахрара в отношениях с правителями, навеянная его житиями, в дальнейшем повлияла на всю письменную традицию вплоть до начала ХХ-го века, в том числе и на исторические сочинения. С другой стороны, по моим наблюдениям, среди большинства исследователей агиография становится едва ли не единственным источником для реконструкции биографий того или иного суфийского шайха и оценки его роли.[10] И коль скоро это так, то логичней рассмотреть, как оценивался политический статус суфийского шайха в этом жанре литературы, чтобы понять его оценку в среде простых верующих, которые всегда предпочитали читать (слушать на собраниях) нехитрые истории из агиографий.
Прошло 15 лет с тех пор, как американский исследователь Хамид Алгар предложил беглый, но очень емкий анализ политической активности лидеров братства Накшбандийа.[11] Однако среди специалистов Узбекистана, или, скажем, Таджикистана резонанса на эту статью, как, впрочем, и на другие работы этого исследователя не наблюдалось. Многоплановую роль накшбандийских лидеров (в том числе и в качестве политических деятелей) рассматривали в своих некоторых работах другая американская исследовательница Джо-Энн Гросс и немецкий исследователь Ю. Паул.[12] Отметим так же блестящую работу по изданию писем Хваджа Ахрара (1404-1490), выполненную Джо-Энн Гросс и А. Урунбаевым.[13] Первый из авторов проанализировала политический аспект (или, по ее выражению, «политическую сферу») обширной переписки Хваджа Ахрара (с. 14-17, 24-31). Можно лишь добавить к этому, что прямо или косвенно в сфере политики можно рассматривать гораздо большее количество опубликованных исследователями писем.
В целом, работы западных специалистов по истории и теории суфизма в Узбекистане почти неизвестны, главным образом из-за их недоступности и языковых барьеров. Не стоит так же упускать из виду, что среди части местных исследователей (особенно в провинциальных городах) заметно несколько неприязненное отношение к работам западных ученых в области мусульманского мистицизма. Основная причина этого, на наш взгляд, в несовпадении методик[14] исследования и интерпретации сведений источников, отношения к суфизму вообще и т.п. Возможно, такое положение совершенно естественно и может объясняться тем, что представители местной школы имеют намного меньше опыта и профессиональной подготовки в изучении религиозных аспектов собственной истории на основе новых методов исследований, каковых достигло мировое востоковедение и исламоведение.
Больше внимания в Узбекистане уделяется русскоязычным работам по суфизму, так как они по традиции оказались более доступны в нашей стране. Еще до нашей независимости русскоязычные исследования в области востоковедения или, скажем, литературоведения во многом определили, так сказать, «творческую активность» большинства наших исследователей на долгие годы вперед. Так, например, случилось со сравнительно небольшой по объему статьей покойного А.Н. Болдырева «Еще раз к вопросу о Ходжа Ахраре».[15] Здесь автор кратко анализирует трансформацию оценок роли Хваджа Ахрара в дореволюционной и советской науке. В числе прочих достоинств работы, можно отметить несомненно смелый поступок ученого, решившегося в условиях атеистической политики предложить новую интерпретацию роли духовного лидера.
Тем не менее, А.Н. Болдырев остался верен той «научной идеологии», носителем и выразителем которой он оставался во всех своих публикациях. Хотя его попытки «переоценить» роль известного религиозного лидера являл собой, как я полагаю, очевидный конфликт между заданными штампами в советских исторических (востоковедных) исследованиях и свободным от идеологии анализом, что всегда было сложно осуществить на деле.
Видимо поэтому основная цель статьи состояла в том, чтобы не просто призвать к объективной оценке Хваджа Ахрара, но, опираясь на хорошо известные положения в советской науке, как бы «обелить» его, представив Шейха в качестве «борца за права угнетенных крестьян». Нельзя сказать, что А.Н. Болдыреву удалось сделать это в полной мере, так как он, для доказательства своих тезисов, опирается на очень ограниченный круг источников. Призывая быть более объективным в исследованиях и оценке роли Хваджа Ахрара, автор впадает в другую крайность, предложив уже готовые клише «оправдательного вердикта», основанные на том же пресловутом «марксистском подходе», правда, часто выглядевшие как обычная на то время дань «идеологической декорации». А самое главное, исследователь, будучи сам далеким от исследований суфизма вообще, не смог сформулировать и предложить более ясных направлений исследований, в частности, роли Хваджа Ахрара в качестве политического деятеля.
Тем не менее, статья становится своеобразным поворотным моментом в изучении как роли Хваджа Ахрара, так и суфизма вообще для многих исследователей бывшего СССР, и в первую очередь для ученых среднеазиатских республик. Однако работа А.Н. Болдырева для исследователей среднеазиатских республик стала не столько источником к размышлениям, новым исследованиям (к чему и призывал исследователь), сколько предметом бесконечных цитат, реинтерпретаций, и даже прямых компиляций. И еще парадокс: в России эта статья уже давно считается устаревшей, взамен появляются более объективные и добротные исследования. Тогда как, например, в Узбекистане ее эмоциональный пафос до сих пор остается единственным методологическим источником для многих специалистов. Их работы, посвященные Хваджа Ахрару (за редким исключением) не предлагают никакого аналитического подхода, как в смысле его действительно объективной роли в истории, так и в смысле комплексной и профессиональной интерпретации сведений из источников. Это, например, хорошо видно по большинству опубликованных тезисов к докладам на юбилейной конференции Хваджа Ахрара.[16]
По крайней мере, популярность статьи Болдырева едва ли не с первых дней после публикации объясняется еще и тем, что она оказалась в унисон с началом «духовной перестройки» местной интеллигенции, которая, на фоне кризиса коммунистической идеологии, по-новому взглянула на свое историческое и религиозное наследие.
Теперь обратимся к некоторым аспектам политических доктрин Накшбандийа, которые так или иначе приписываются Хваджа Ахрару.
Уместно отметить, что первоучитель Хваджаган/Накшбандийа ‘Абд ал-Халик Гидждувани (ум. в 1180 или 1120) категорически отвергал всякую связь с правителями, поскольку это, по его мнению, пробуждает у суфия вредную страсть к мирским делам. «Бойтесь султанов, как боитесь тигров», «не сиди с султанами, ибо это ослабляет веру и тарикат (=братство) …» – провозглашал Гидждувани.[17]
Позже заложенный в теоретических основах братства Накшбандийа призыв к социальной и экономической деятельности естественным образом привел к политической активности братства. Как передают источники, одним из первых представителей этого братства по поводу политики высказывался Амир ‘Умар ибн Амир Кулал (ум. в 1408 г.): «Знай, что политика (сийасат) – есть обуздание и упорядочивание. Плохих людей следует держать в боязни и страхе, хороших – одаривать. Если не будет политики, важные дела (государства) не устроятся; если не будет законов воспитания и наказания, дела (государства также) расстроятся …».[18] Эти идеи не столь оригинальны, так как примерно в таком виде они высказаны за несколько столетий рядом других мусульманских авторов. Более оригинальны идеи Амир ‘Умара о необходимости строгого надзора (ихтисаб) со стороны суфийских шайхов не только за действиями подданных, но и правителей, «дабы они следовали путем шари‘ата» (там же, л.103а,б). Ему же приписывают реплики, в которых ясно звучит мысль о необходимости выполнения суфием функций «карающего меча» за отступления от шари‘ата (там же, л. 102а).
Еще более четкая формулировка идей о политической активности Накшбандийа, а самое главное их практическое воплощение принадлежит Хваджа ‘Убайдаллах Ахрару, считавшего себя в этом смысле новатором в братстве. Имея в виду политическую раздробленность и междоусобицы, Хваджа Ахрар, заявлял, что «время ухудшилось, и поэтому самое лучшее дело – быть при дворе правителя, дабы помогать народу и угнетенным …», и что «возвысив религию пророков до пределов, следует с ней идти к правителям, дабы перед величием веры их трон и венец показались ничтожными …».[19] Такого рода заявления Хваджа Ахрара являются скорее ёмкими литературными формулами его идей, которые в довольно большом количестве и в разных интерпретациях приведены в его житиях. Однако здесь не скрываются претензии суфиев быть «медиатором» (термин, использованный Джо-Энн Гросс) между властями и народом. В этом смысле, «уничтожение дыма Чингизовой Йасы»[20] выражалось для Хваджа Ахрара не только в выполнении некой социальной программы – отмена нешари‘атских налогов, призыв к разумной эксплуатации и т.п. Основная его идея – личное действие духовного авторитета во имя подчинения государственно-правовых норм канонам ислама, утверждение государственного порядка, основанного на шариатском правлении. Для этого, по мнению Хваджа Ахрара, правитель должен был хорошо знать исламские законы, а самое главное, следовать им. Однако, по его утверждению, современные ему правители не следовали предписаниям шариата. В этом отношении наиболее характерна приписываемая ему фраза: «Дар хана-йи падишахан Худа ва Расул нист» – Во дворах падишахов нет Бога и Посланника [Аллаха]» (там же, л. 110 б).
Не будет ошибкой сказать, что Хваджа Ахрару принадлежат лавры новатора в выработке форм и методов взаимоотношений с власть предержащими. И, как сказано, эти формы и методы в разных источниках преподносятся по-разному. Если верить житиям Хваджа Ахрара, то в основу этих взаимоотношений ставилось не только простое увещевание в классическом суфийском духе. Как показывают исторические события, к такого рода наставлениям и увещеваниям бóльшая часть правителей оставались невосприимчивыми. Поэтому в отношениях с правителями Хваджа Ахрар, согласно его житиям, все чаще прибегал к «умиротворению с позиции силы», подкрепленному экономическим могуществом и авторитетом в качестве духовного лидера.[21]Авторы накшбандийской агиографии (начиная с житий Хваджа Ахрара) не скрывали, и даже подчеркивали весьма жесткие меры наказания противников Шайха, непочтение (би-адаб) или сопротивление которому неизбежно влекли за собой божью кару: болезнь, напасти или даже смерть осмелившегося противиться. Анекдотов на эту тему из житий Хваджа Ахрара (или, как его называют в рукописях – Хазрат-и Ишан) можно привести десятки. Остановимся на некоторых из них, имеющих ярко выраженные политические мотивы и подоплеку. В одном из вариантов жития Хваджа Ахрара приведен показательный случай конфликта с удельным Тимуридом ‘Умар-шайхом. Последний дважды обложил дополнительным налогом (тахмил/тахмилат) жителей Ташкента и округи. Хваджа Ахрар, оба раза выплатил требуемую сумму. Однако на третий раз он решил прибегнуть к прямой угрозе. Через своего родственника, являвшегося одновременно приближенным ‘Умар-шайха — Маулана ‘Абд ал-Ваххаба, Хваджа Ахрар передает следующие слова: «Ступай к ‘Умар-шайху и скажи, пусть он отступиться от этих мыслей и намерений, если нет, я его убью! Абу Са‘ид,[22] (Амир) Кубад, Малик Ислим и Мухаммад-Хазан – все они убиты мной. Я умертвил многих других, так что теперь стыжусь проходить мимо кладбища». И далее приводится рассказ о том, как погибли некоторые из названных высокопоставленных людей.[23]
Другой, не менее показательный случай приведен от имени одного из приверженцев Хваджа Ахрара, который видел сон, будто бы после смерти Султан Ахмада (1494) он встретился с Хваджа в самаркандском Матуриде, спросил, кто же должен воссесть на престол. Хваджа Ахрар ответил, что предпочитает Султан Махмуда (правитель Хисара, 1459-1494). Рассказчик выразил удивление, утверждая, что люди о Султан Махмуде отзываются плохо и что он притеснял «потомков и приближенных Хазрат-и Ишана» (т.е. Хваджа Ахрара). Ответ Ишана был примечателен: «Ну что ж, если он сделает что-нибудь дурное, то может случиться так, что если (заупокойную) молитву Султана Ахмада мы провели в пятницу, то его (заупокойную) молитву проведем в субботу». Автор добавляет, что позже так и произошло.[24] Контекст рассказа более чем откровенен и ясно демонстрирует читателю политический статус Ишана и любого его оппонента в правительстве, вплоть до самого правителя.
Хотя, не исключено, что авторы житий в подобных рассказах явно сгустили краски, старались показать, что любой несчастный случай с тем, кто осмелился противиться Хазрат-и Ишану, есть «божье провидение» (карама/карамат). Однако настойчивое повторение и действительных, и несколько искаженных рассказов с подобными лейтмотивами говорит о том, что они, так или иначе, отражали реальные события и положение дел. Например, об открытом прессинге на правителей Самарканда со стороны Хваджа Ахрара свидетельствуют и другие эпизоды из его биографий. Жесткая «опека» Ишана по отношению к своему «муриду» Абу Са‘иду кончилась тем, что последний совершенно отчаялся противостоять прессингу на его ближайшее окружение, и будто бы даже посоветовал своему приближенному: «Хазрат‑и Ишан устранил ряд верных мне людей … и ты тоже махни рукой на эти дела, иначе погибнешь».[25] Не меньшему давлению подвергались сын и наследник Абу Са‘ид султана – упомянутый Султан Ахмад и некоторые чиновники из его окружения, попытавшиеся восстановить тамгу, отмененную по настоянию Хваджа Ахрара. Эта попытка была встречена Хваджа примечательной репликой: «Хваджа Баха’ ад-дин одно время был палачом.[26] Мы тоже из его учеников, поглядим, чья возьмет»! Узнавший об этом заявлении Султан Ахмад «испугался и выбросил это намерение из головы», а те чиновники, кто отказался отменить тамгу, поплатились за это жизнями.[27]
Нельзя не отметить и такую сторону политической активности Хваджа Ахрара, как решительное вмешательство в междоусобицы удельных Тимуридов, в результате чего ряд столкновений были остановлены, о чем писали множество исследователей. Можно, к примеру, упомянуть об очень важном для судеб Мавараннахра и Хорасана эпизоде, когда после смерти Султан Абу Са‘ида (1469) все претенденты на престол едва не столкнулись в кровопролитной борьбе за верховную власть. В агиографической традиции (чаще всего упоминаемой исследователями) этот эпизод получил наиболее подробное описание в сочинении Мухаммада Кази, ставшего непосредственным участником событий.[28] Этот же эпизод в более сдержанных тонах передает и Хондамир.[29] Однако, как доказывает Джо-Энн Гросс, еще более точную картину роли Хваджа Ахрара в качестве посредника-миротворца показывают письма последнего, которые свидетельствуют о более долгой и трудной (и не всегда удачной) переписке по дипломатическому предотвращению этого конфликта.[30]
Тем не менее, как сказано, допуская возможность литературной обработки в агиографии действительных событий, для более сильного воздействия на читателя, полагаем, что приведенные и похожие эпизоды восходят к реальным событиям. Здесь важна иллюстрация одного из методов борьбы за утверждение в государстве исламских, но не степных законов. В этом смысле Хваджа Ахрар являлся выразителем позиций духовенства (видимо широко поддерживаемого купечеством, ремесленниками и другими слоями населения), стремившегося к практической реализации исламской шариатской доктрины в управлении государством, а так же желания вытеснить «еретические» (с их точки зрения) степные тюрко-монгольские модели государства.[31] По этой причине всякая междоусобица рассматривалась Хваджа Ахраром и его ближайшими последователями, как нарушение шариатских норм и давало, на его взгляд, соответственное право вмешиваться в политику и политические конфликты.[32] Таким образом, можно говорить о новой, в определенной степени несвойственной для суфийского шайха, функции политического лидера с явно выраженной оппозицией к любым неисламским государственно-правовым порядкам.[33]
Резкие изменения в накшбандийской литературе (в том числе и агиографии) заметны с момента, как произошла трансформация в ее практической деятельности. Известные жития Хваджа Ахрара и вся последующая литература похожего жанра отличается от прежних агиографий, прежде всего тем, что в центр внимания выносится политическая деятельность и политический авторитет шайхов, и как особая божественная милость (карма/карамат) описываются размеры их богатств, хотя при этом подчеркивается отсутствие их личной привязанности к своему имуществу.[34] Но те же источники содержат и другие рассказы, когда любое посягательство на богатства шайха (особенно попытки лишить их налогового иммунитета) кончалось очень печально (вплоть до избиения или физического уничтожения) для тех, кто, скажем, решался приостановить налоговый иммунитет накшбандийского лидера, будь то Хваджа Ахрар, Махдум-и А‘зам (ум. в 1542)[35] или Джуйбарские ходжи, о чем в их житиях мы находим десятки примеров.
Однако авторы большинства житий Хваджа Ахрара чаще всего теряют чувство меры. Например, приводятся маловероятные рассказы, в которых выдающуюся политическую роль в будущем Хваджа Ахрара будто бы предрекали другие накшбандийские шайхи. Можно сослаться на рассказ (в разных интерпретациях), в котором ученик ‘Ала ад-дина ‘Аттара (ум. в 1400 г.) Низам ад-дин Хамуш (ум. в 1456 г.), предвидя рождение Хваджа Ахрара, якобы говорил: «нерадивые султаны мира будут опечалены от него».[36] Подобные же сведения приводят и другие ученые.[37] Тем не менее, авторы агиографий не без гордости подчеркивают значительную политическую роль Хваджа Ахрара и его последователей, их авторитет среди правителей, которые проявляли почтение к накшбандийским лидерам не только за их исключительные духовные качества, а нередко из страха.
Таким образом, политизация Накшбандийа, возникшая как реакция на нарушение норм шари‘атского правления и внутридинастийные раздоры, полностью проявилась и закрепилась при Хваджа Ахраре. Дальнейшая история накшбандийских лидеров являла собой, скорее, пример политической активности глав суфийских кланов, нежели духовно-философское течение.
Социальная активность и политизация суфийских братств (прежде всего Накшбандийа) сыграли в свое время свою положительную роль в жизни местного социума, одновременно резко подняв влияние суфизма, в особенности его лидеров. Однако со временем, когда политически влиятельные суфийские династии (потомки Хваджа Ахрара, Махдум-и А‘зама, Джуйбарские шайхи и др.) стали вступать в родственные связи с правящими династиями, политическая активность ослабла, либо была поставлена на службу собственно клана. Это, в конечном итоге, привело к фактической интериоризации основных ветвей братства Накшбандийа, точнее лидеров суфийских кланов.
И, между прочим, уже в XVI-м веке под влиянием Накшбандийа, лидеры других братств Трансоксианы тоже стали активно вовлекаться в политику, хотя явно уступали в этом накшбандийским шайхам.[38] Политизация так же привела к серьёзной конкуренции между братствами и даже между лидерами Накшбандийа. При этом эта борьба часто выглядела даже не как конкуренция суфийских лидеров за послушников, а как политическая борьба, в которую нередко вмешивались высокопоставленные чиновники и правители.[39]
Позже повторная стагнация привела к крайнему упрощению суфийских доктрин, с эмфазисом на ритуальной практике, тоже в очень упрощенных видах. Хотя и в такой форме Накшбандийа продолжала оказывать серьезное влияние на местные социумы. Но именно политизация, в ущерб высокой нравственности и духовности раннего суфизма, стала причиной стагнации Накшбандийа в регионе его зарождения. Новое возрождение братства связано с индийским ответвлением Накшбандийа/Муджаддидийа, тоже, впрочем, впавшей в стагнацию в связи с новым витком политизации ее лидеров.[40]
***
Здесь я намерено избегаю однозначных заключений и выводов. Они, на мой взгляд, вполне очевидны из тех цитат и рассуждений, что приведены выше. В их свете мне лишь хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства. В последнее 15-20 лет в Узбекистане (как и во всех странах региона) заметно стремление по новому взглянуть на собственную историю, чтобы очистить ее от тех «перегибов», что царили в прошлом.
Что касается происходящей сейчас в Узбекистане переоценки истории суфизма и, в частности роли и места Хваджа Ахрара, то возникает ощущение, что здесь вновь допускается «перегиб», но теперь в другую сторону. Я имею в виду нынешнюю оценку Хваджа Ахрара местными исследователями, и даже попыток придать этой неоднозначной фигуре качеств своеобразного духовного идола. Между тем, из тех узбекских исследователей, кто обращаются у нас к фигуре Ходжа Ахрара, трудно назвать того, кто бы в действительности читал и профессионально анализировал весь комплекс имеющихся источников, не говоря уж об опубликованной по этой теме литературе. Большинство изданных в этом направлении работ в Узбекистане (все они носят научно-популярный характер и явно навеяны работами авторов прошлого, вроде А.Н. Болдырева) сводятся к ненаучным переводам из очень ограниченного круга письменных источников и стандартным отступлениям, увенчанными до боли знакомым набором характеристик и фраз. За трескучими и пустыми фразами, кроется непрофессионализм и отсутствие методологических подходов (в частности, историзма или комплексного анализа имеющихся источников). При этом нет даже намека на критический подход, добросовестный анализ, а все сведения знакомых источников подобраны пристрастно.
И, наконец, краткий экскурс в историю Накшбандийа в Трансоксиане показал, что мы вправе ставить вопрос относительно политического контекста возрождения и институционализации суфийских групп в современной Центральной Азии. Считаем уместным повторить, что именно политизация суфизма (как в качестве оппозиционной силы, так и в качестве конформистских движений) стала одной из причин его упадка как мистико-философского движения. «Политический суфизм» в средневековье стал существовать как бы сам по себе, «обмирщаясь» и всё более удаляясь от положений классического суфизма и тонких мистических переживаний. Одновременно, некоторые мелкие ответвления братств (в том числе и Накшбандийа), которые не могли играть какой-нибудь политической роли, в силу своей малочисленности, но сохранили свои небольшие кружки, благодаря коллективным суфийским ритуалам (в основном зикр). Именно вот такой суфизм, то есть не политизированный, но тоже без сложных мистико-философских размышлений, в основном и сохранился в советское время. Однако такие группы суфиев были маленькими и о полноценном функционировании их организационных структур говорить не приходилось, так как в существовавших условиях тотальной атеистической политики о возрождении деятельности суфийских братств, тем более об их политической активности не могло быть и речи. Существовавшие маленькие группы суфиев объединял коллективный ритуал. Впрочем, и новых (не говоря уж о духовно высоких) сочинений уже не составлялось.
Возвращаясь к современной ситуации, пока, как сказано выше, мы имеем единичные примеры прямого вовлечения в политику суфийских лидеров. Основная же часть суфийских лидеров вносят свою долю толерантности в религиозную ситуацию региона и выступают в качестве стихийного баланса против политизации ислама в странах ЦА[41].
И, наконец, обратим внимание на выбор государственными органами пропаганды беспорядочно подобранные положения суфизма в качестве компонента государственной идеологии в большинстве стран региона. Мы полагаем, что этот выбор совершенно непродуман и его следовало бы сочетать с предварительным научным анализом всех форм регионального суфизма.
[1] Улугбек Касымов. Суфизм. Взгляд через века. http://www.centrasia.ru/news (18.10.04).
[2] Это, например, Довуд-хон кори (представитель братства Кадырийа, Наманган), накшбандийский лидер Андижана Одил-хон Андижони.
[3] В одной из папок с документами Комитета по религиозным культам при Кабинете министров УзССР сохранилась многолетняя переписка (1952-1961), в которой местные власти предупреждали власти в Ташкенте и в Москве о том, что закрытие мечети Хваджа Ахрара нежелательно по причине её исключительной популярности и в связи с тем, что «это действие может вызвать беспорядки» (Центральный государственный архив РУз, фонд Р-5427, папка 17).
[4] Хожа Аћрор Валининг Марказий Осиё тарихи ва маънавиятида тутган ўрни. Илмий-амалий анжуман ма’рузалари тезислари. Т., 2004.
[5] Hodgson M.G.S. The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, vol. 2, Chicago (Chicago Press), p. 218; Gilsenan M. Saint and Sufi in Modern Egypt: An Essay in the Sociology of Religion. Oxford, 1973, p. 3.
[6] В ходе своих полевых исследований, я отметил разные стимулы, вовлекающие множество совершенно разных людей в современные суфийские общины ЦА. Для интеллектуалов вовлечение в братство нередко результат внутреннего убеждения, «духовных исканий», для более простых членов (особенно провинциалов), как сказано – опора и поиск душевного равновесия на фоне крайне сложной жизни. Нередки случаи, когда в братство приходят в поисках утешения от душевных травм, либо даже исцеления от физических недугов. Не менее интересным кажется и феномен вовлечения в братства вполне преуспевающих бизнесменов.
[7] Можно даже сказать, что в настоящее время количество исследователей суфизма наверняка превосходит число авторитетных суфийских шайхов за все время существования мистицизма.
[8] Самая полная историческая хроника, где мы находим сведения о политической роли Ходжа Ахрара, это четвертый том знаменитой «Истории» Хондамира (Гийас ад-дин Хондамир. Тарих хабибу-с-сийар фи ахбари афради башар. Издание Мухаммада ‘Али Таракки, т. 4, Тегеран, 1333/1955).
[9] Одним из доказательств того, что агиография была наиболее популярным видом чтения является то, что количество сочинений этого жанра всегда во много раз превосходит иного рода источники (за исключением, может быть фикха) как в частных фондах, так и в современных государственных.
[10] Что касается Хваджа Ахрара, то, пожалуй, наиболее часто используемым исследователями источником (своего рода «настольной книгой») стало произведение Фахр ад-дида ‘Али ал-Кашифи «Рашахат ‘айн ал-хайат». Между тем, имеются не менее, если не более надежные источники того же жанра, например, «Силсилат ал-‘арифин ва тазкират ас-сиддикин» Мухаммада ибн Бурхан ад-дина/Мухаммада Кази (Ркп. ИВ АН РУз, № 4452/I). Мухаммад Кази был свидетелем и участником большинства тех событий, о которых он пишет, тогда как автор «Рашахат» пользовался известиями из вторых рук, либо уже написанных сочинений, в том числе и из «Силсилат».
[11] Algar H. Political aspects of Naqhbandi Histori // In: M. Gaborieau, A. Рopovich, T. Zarcone (eds.), Nagshbandis — Cheminement et situation actuelle D’un ordre mystique musulman, Istanbul-Paris 1990, p. 3-44.
[12] Gross Jo-Ann. Multiple Roles and Perceptions of a Sufi Shaykh: Simbolic Statements of Political and Religious Authority // In: Nagshbandis — Cheminement et situation actuelle, p. 109-121; Paul Ju. Politische und sociale der Naqsbandiyya. – Berlin-New York, “Walter Gruyter”, 1991.
[13] The Letters of Khwadja ‘Ubayd Allah Ahrar and his Assosiates. Persian text ed. By A. Urunbaev, English translation by Jo-Ann Gross. “Brill”. Laiden-Boston-Köln, 2002.
[14] Во взглядах большинства наших исследователей господствует скорее традиционализм и апологетика, не сочетающиеся с аналитическими и критическими подходами.
[15] Болдырев А.Н. Еще раз к вопросу о Ходжа Ахраре // Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. М., «Восточная литература», 1985, с. 47-63.
[16] Хожа Аћрор Валийнинг Марказий Осиё тарихи ва маънавиятида тутган ўрни. Республика илмий-амалий анжуманнинг тезис материаллари. Тошкент, «Sharq», 2004.
[17] ‘Абд ал-Халик Гидждувани. Васийат-нама. Ркп. ИВ АН РУз, №3844/XVI, Л. 182б-183б.
[18] Шихаб ад-дин ибн бинти Амир Кулал. Макамат-и саййид Амир Кулал // Ркп. ИВ АН РУз, № 8667, л.101б.
[19] Манакиб-и Ходжа ‘Убайдаллах Ахрар (аноним) // Ркп. ИВ АН РУз, № 9730, лл. 81 а,б, 103а,б.
[20] Фраза принадлежит ‘Абдуррахману Джами (цит. по: Болдырев А.Н. Еще раз к вопросу…, с. 55).
[21] Сравните: Болдырев А.Н. Еще раз к вопросу, с. 59; Algar H. Political aspects, р. 126.
[22] Речь, возможно, идет о правителе Самарканда – Абу Са‘ид султане (1451-1469 г.).
[23] Манакиб-и Ходжа ‘Убайдаллах Ахрар (аноним) // Ркп. ИВ АН РУз, № 1883/III, лл. 110б-111а.
[24] Там же, лл. 116б. Благодарю М. Кодирову, обратившую моё внимание на этот эпизод.
[25] Цитирую по: Набиев Р.Н. Из истории политико-экономической жизни Мавераннахра XV века (заметки о Ходжа Ахраре) //Алишер Наваи. М.-Л., «Наука», 1946, с.29.
[26] Имеется в виду легендарный случай в ранней биографии, когда Баха’ ад-дин будто бы служил палачом при дворе Халил Султана.
[27] «Рашахат», с. 320. См. так же: Казаков Б.А. Сыновья Ходжа Ахрара и последние Тимуриды. // Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке, с. 320; Чехович О.Д. Из источников по истории Самарканда // Из истории науки эпохи Улугбека. – Т., 1979, с. 311.
[28] «Силсилат», л. 171б-173б.
[29] «Хабиб ас-сийар».т. 4, с. 109-110.
[30] The Letters, с. 26-28.
[31] Сравните: Algar H. Political aspects, р. 14; The Letters, c. 31-36.
[32] Фахр ад-дин ‘Али ибн Хусайн Ва‘из ал-Кашифи. Рашахат ‘айн ал-хайат. Тошканд, 1329/1911, с. 342.
[33] Эти наши выводы, сделанные в нашей диссертации [Политическая деятельность шайхов Накшбандийа в Мавераннахре (I половина XVI в.). Диссертация на соискание степени к.и.н. Ташкент, 1996, с. 32-39] близки к тем, которые предложила упомянутая исследовательница Джо-Энн Гросс: The Letters, Chapter 2, The Political Sphere, p. 24-31.
[34] См. об этом так же: Gross Jo-Ann. Multiple Roles, р. 114-116.
[35] См. подробней: B.M. Babadjanov. Biographys of Makhdum-i A’zam Khwadjagi al-Kasani ad-Dahbidi, Shaykh of the Sixteen-Century Naqshbandiya // Manuscripta Orientalia (Internationale journal for Manuscript Research), vol.5, No 2, St.- Petersburg-Helsinki, 1999, pp. 3-9.
[36] Рашахат, с. 250.
[37] Бартольд В.В. Улугбек и его время // Сочинения, т. II, ч. 2, М., 1964, с. 123-124.
[38] Б.Бабаджанов. Йасавийа и Накшбандийа в Мавараннахре: из истории взаимоотношений – средина XV—XVI вв. // Йасавийа таглымы, «Университет», Туркистан, 1996, с. 75-96.
[39] Там же, c. 90; B.M. Babadjanov. Mawlana Lutfullah Chusti. An Outline of his Hagiograpphi and Political Activity. // In: ZDMG, 149/1, 1999, p. 67-89.
[40] См. об этом мою статью: On the history of the Naqshbandiya-Mujaddidiya in Central Mavara’annahr in the late 18th and Early 19th Centuries // Moslem Culture in Russia and Central Asia from 18th – to the early 20th Centuries. Berlin, KSV, 1996, p. 385-413. Более подробно: Anke v. Kügelgen. Die Entfaltung der Naqsbandiya-Mugaddidiya im mittleren Transoxanien vom 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts/ Im: Ein Stuk Detektivarbeit. In: Muslim Culture in Russia and Central Asia from the 18th to the Early 20th Centuries. Vol. 2: Inter-Regional and Inter-Etnic Relations. Ed. by A.v. Kuegelgen, M. Kemper, A. J. Frank. Berlin, KSV, 1998, S. 120-127.
[41] Мы можем сказать больше – до сих пор ни у одного государства региона не существует внятной концепции религиозной политики. В одних странах эта политика сводится к осторожному заигрыванию с религиозными лидерами (это, например, Кыргызыстан), в других мы видим довольно жесткий контроль (Узбекистан).
Б.М. Бабаджанов (Ташкент)
(Опубликовано: Arabia Vitalis. Арабский восток, ислам, древняя Аравия / Сб. статей, посвященный 60-летию В.В. Наумкина. – М.: Восточная литература, 2005. 177-190)