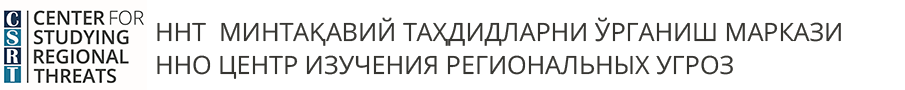В ночь на 18 мая 1898 года (по Юлианскому календарю) в Андижане произошло событие, буквально всколыхнувшее тогдашний достаточно спокойный Туркестан и вошедшее в историю как «Андижанское восстание» (в местной литературе того времени – «Дукчи Эшон фитнаси»). Плохо вооруженные повстанцы в количестве около двух тысяч человек атаковали казармы царских войск в Андижане и правительственные учреждения в Ошском уезде. В андижанском гарнизоне было убито 22 и ранено 18 солдат русской армии, были жертвы среди чиновников и гражданского населения русской национальности. После ответных залпов караульной роты, толпа нападавших в беспорядке рассеялась и отступила, оставив во дворе казарм убитых и раненных (около 30 человек). Предводитель восставших Мухаммад-‘Али по прозвищу Дукчи (Ийикчи) Ишан (Ишан-вертенщик) со своими ближайшими соратниками был схвачен уже 19 мая. У одного из схваченных – Субхан-кули ‘Араб-бая при обыске был найден Коран, в котором оказался документ, представляющий собой выданное Мухаммаду-‘Али фальшивое свидетельство в том, что он назначается халифом турецкого султана ‘Абд ал-Хамида II (1876-1909). Все предводители восстания (6 человек) были повешены, сотни других высланы в Сибирь и другие районы Империи. Центром восстания было селение Минг-типа (примерно в 25 км. к юго-востоку от Андижана), где находились обитель (ханака), мадраса и другие сооружения, построенные Дукчи Ишаном. Весь этот комплекс, вместе с находящимся рядом селением, были разрушены и на этом месте основано поселение из русских переселенцев.
Эти события уже становились предметом обсуждения ряда исследователей, обращавших внимание преимущественно на хронологию событий, «суфийскую составляющую» в «организации» Дукчи Ишана, возможные связи ее с «Великой Портой» и т.п.[2] Меньше внимания было обращено на непосредственную связь «андижанских событий» с усилением нового витка обсуждений так называемого «Мусульманского вопроса», имеющим отношение к исламской политике не только в Туркестане, но и во всей Российской империи.
В этой статье хотелось бы кратко представить реакцию на Андижанское восстание русских экспертов и политиков, особенно тех, кто работал в тогдашнем Туркестане, и по своему стимулировал новый виток обсуждения «мусульманского вопроса» в связи с этим восстанием, о чем уже упоминали некоторые исследователи.[3] Эта проблема также тесно связана с историографическими и методологическими спорами о колониализме, русском «ориентализме» (известный концепт «знание и власть»), статусе «русских экспертов», естественно, более всего увлеченных воплощением идеи русского миссианства, которое выражалось в попытке ассимиляции и вовлечения «туземцев» в «цивилизационное пространство», конечно, в понимании того времени. Во всяком случае, личные, порой достаточно доверительные отношения между «знатоками края», работавшими в русском Туркестане и некоторыми представителями местной религиозной аристократии и интеллигенции, вносят серьезные коррективы в широко обсуждаемый вопрос о статусе русского колониального эксперта (в рамках оценки «русского ориентализма»), заставляя прибегать к более сложным концептам, чем те, которые предлагают некоторые исследователи.[4] Тем не менее, немного забегая вперед, заметим, что отчужденность с автохтонным населением не могла быть преодолена у большинства русских экспертов, работавших в регионе, несмотря на то, что некоторые из них (как, например, В.П. Наливкин[5]) к этому стремились.
С «мусульманским вопросом» (и особенно с попытками «культурной/цивилизаторской ассимиляции») непосредственно связана и другая проблема – то есть отношение к колонизаторам местного населения, степень отчужденности которого была куда более обширной (особенно в первые годы после завоевания края), и едва ли могла быть преодолена «как можно скорее», как того желали эксперты, либеральная позиция части которых, надо сказать, не смогла стать доминантой в общей колониальной политике на юге Российской империи. Во всяком случае, «русский взгляд» и русский «ориентализм» изучаются давно, и здесь наработок намного больше,[6] чем исследований и анализов по взгляду с Юга («Востока»). Это побуждает нас включить в настоящую статью хотя бы беглый обзор и предварительный анализ, так сказать, «взгляда на колонизаторов» (looking at colonizers). Ведь «стороны» процесса колонизации и, тем более, «культурного вовлечения» по-разному понимали формы своего взаимодействия («участия»), воспринимая друг друга с точки зрения собственных культурных и/или религиозных традиций. В первую очередь это касается богословов из кругов так называемых традиционалистов-консерваторов (к которым вполне можно отнести и Дукчи Ишана), крайне отрицательно воспринимавших «смешение с русскими/неверными». Особенности такого «взгляда с Юга (‘Востока’)» можно обнаружить в произведениях местных традиционалистов-консерваторов, в том числе и в сочинении лидера Андижанского восстания Дукчи Ишана, о чем мы упомянем ниже. Уместно остановиться и на взглядах тех местных авторов, кто осудил Дукчи Ишана, нарушившего «фетву мусульман с Белым царем». Во всяком случае, эти проблемы должны рассматриваться непосредственно как в связи с «мусульманским вопросом» (особенно в Туркестане), так и с собственно Андижанским восстанием, которое поставило под вопрос казалось бы разрешенную задачу об «окончательном замирении края», и, тем более, саму идею «культурной ассимиляции».
«Тайный заговор … обласканных русской властью мусульман»
В большинстве выступлений недовольных масс в Туркестане периода колонизации прямые политические требования были достаточно редким явлением. Однако восстание под предводительством Дукчи Ишана, конечно же, было политическим, хотя среди его последователей разные участники руководствовались отнюдь не одинаковыми стимулами, по крайней мере, в момент вовлечения в «организацию» Ишана. Осознанное политическое вовлечение (в том числе, и очевидное антиколониальное) было также не чуждо местным народам и особенно интеллигенции, включая Бухарское и Хорезмское ханства.[7] Наибольшую активность в этом смысле проявили разного рода реформаторы, особенно их левое (условно) крыло – джадиды, и позже (в момент двух последних Русских революций) их оппоненты – т.н. «кадимисты».[8]
Между тем, до Андижанского восстания в «мусульманском вопросе» колониальная администрация ориентировалась в целом на отказ от прямого вмешательства «в духовные дела магометан», каковая политика (названная позже «политикой игнорирования деятельности мусульманских духовно-образровательных учреждений») была инициирована и обоснована при первом генерал-губернаторе Туркестана К.П. фон Кауфмане (1867-1882). Обычно такая позиция К.П. Кауфмана толкуется в том смысле, что он надеялся на естественное и постепенное «отмирание» мусульманских институтов как «нерациональных». Тезисы о кауфманской политике игнорирования, сформулированные М.А. Тереньтьевым, Н.П. Остроумовым и затем повторенные В.В. Бартольдом,[9] были истолкованы в том смысле, что Кауфман пытался таким образом придать некоторую секулярность повседневной жизни местных мусульман[10]. Однако, прямых доказательств таких мыслей о «секуляризации» в поступках Кауфмана пока не приведено. Скорее всего К.П. Кауфман, как трезвый и прагматичный политик руководствовался более актуальными на то время целями «замирения и устроения края», не ставя таких перспективных задач.
Во всяком случае, политики «игнорирования ислама» (исключавшей грубое вмешательство в духовные дела местных мусульман, в том числе и образовательных учреждений) удавалось придерживаться практически до революций 1917 г., если не считать некоторых издержек.[11] Однако Андижанское восстание побудило большинство местных экспертов и представителей высшего эшелона властей губернаторства поставить вопрос об отказе от этой политики, предлагая более жесткий контроль, особенно, что касается образовательных учреждений, вакфных имуществ,[12] lуховных управлений и т.п.
Во всяком случае, Андижанское восстание, конечно же, следует рассматривать как акт исключительно политический (пусть и локальный), и очевидно направленный против колониальных властей.[13] И именно так оно было воспринято как местной колониальной администрацией, так и в метрополии. Об этом свидетельствуют целый поток публикаций в русской прессе, последовавших как реакция (иногда крайне агрессивная) на Андижанское восстание, возбуждая новые дискуссии в рамках «мусульманского (магометанского) вопроса», и «дервишизма».[14]
Своеобразную оценку этого выступления, и в целом «мусульманского вопроса», сделала и местная колониальная администрация Туркестана. Особенно интересен в этом отношении «Всеподданейший доклад», подписанный тогдашним генерал-губернатором Туркестана С.М. Духовским (март 1898-1901).[15] Уже с первых строк доклада ясно, что именно Андижанское восстание было основным стимулом к составлению этого документа на имя Николая II (1894-1917). В нем собственно восстание было воспринято исключительно как «тайный заговор … обласканных русской властью мусульман», и высказано предположение, что «позывы среди мусульман к восстаниям, подобным андижанскому, возможны и в будущем».[16]
В целом документ являет собой своеобразную квинтэссенцию тех противоречивых позиций по отношению к «мусульманскому вопросу», царящую в настроениях так называемых «практических исламоведов» (экспертов) края, кто в действительности составил этот документ, и, соответственно, вложил в него свои собственные наблюдения, исследования, и особенно – страхи и опасения.[17] Конечно, их взгляды так или иначе влияли на формирование позиции части политиков, военных и представителей административной системы, как в колонии, так и в метрополии.
Отношение к «мусульманам», «исламу и туземцам», ярко проявляющееся в документе, было некоторым образом двойственной. С одной стороны мы видим «отеческую заботу» (в тогдашнем, скорее политическом и миссианском понимании) о мусульманской «массе желаемых сынов», или искреннее стремление уничтожить существующие между русскими и местным населением «стены и пропасти» (с. 162). С другой – ислам воспринимается как «безусловно враждебный христианской культуре, исключает всякую возможность полного нравственного ассимилирования с нами нынешних подданых мусульман» (с. 155; подчеркнуто мной – Б.Б.).
Это резкое отчуждение и определило основное направление предлагаемой в то время политики по отношению «к мусульманству» – силовое давление, сочетаемое с идеей «нравственной/культурной ассимиляции» через образовательные учреждения колониальной администрации (прежде всего, русско-туземные школы).[18]
В первом случае, то есть относительно силового решения взаимоотношений с мусульманами, наиболее характерная ремарка документа (в числе прочих) такова: «Туркестанские туземцы, в течение многих веков привыкшие к необузданному самовластию их бывших правителей … привыкли уважать грубую силу» (С. 155). Исходя из этого посыла, в документе настойчиво предлагается демонстрировать местному населению неизменную готовность решить «любое недовольство» с помощью регулярных войск царской армии и рассматривать эту демонстрацию силы как наиболее эффективное средство «усмирения».
Что касается вопроса «культурной ассимиляции туземного населения», то в документе мы, скорее, видим сетования по поводу неуспешности этой «программы» и констатацию факта о верности самих мусульман своим традиционным учебным заведениям и духовным авторитетам (цитата: «Русская администрация имеет в своем распоряжении самые ничтожные средства для культурной борьбы с мусульманством, для ослабления того влияния, которое оказывают … мусульманские школы, казии, ишаны и проч.» – С. 154).
Другие документы, на которые мы хотим обратить внимание, также составлены в администрации С.М Духовского, и тоже имеют особый смысл, апеллирующий к Андижанскому восстанию и поднятому в связи с ним «мусульманскому вопросу». Речь идет о представленных колониальной администрацией (в Ташкенте) секретных документах с названием: «Общий свод комиссии по вопросу мусульманского Духовного управления в Туркестанском крае» с Приложениями (Проектов штатов этого Управления и о мусульманских учебных заведениях).[19] К Своду приложена сопроводительная записка Главного штаба Военного министерства (Азиатской части) новой редакции некоторых статей положения «Об устройстве управления духовными делами мусульман Туркестана» (взамен редакции 1886 г.).[20] Из Проектов Свода и Записки ясно, что Андижанское восстание стимулировало споры о правомерности политики «игнорирования ислама русской администрацией» и о формах «надзора за духовными делами мусульман».[21]
Итак, из «Общего свода» ясно, что колониальная администрация Туркестана настаивала на том, чтобы положить конец прежней политике «невмешательства в духовные дела мусульман Туркестана», предоставив результаты работы собственных экспертов для внесения поправок и дополнений в прежнее «Положение по управлению Туркестанским краем», выработанным ранее Комиссией Графа Игнатьева.
Самый главный вопрос, по которому возражали некоторые эксперты, живущие и работающие в южных окраинах Империи и вовлеченные в создание названного документа, – это возражения раздающимся предложениям создать Духовное управление в Туркестане по типу Уфимского или Кавказского. В документах предложено создать такое Управление фактически под прямым (без посредничества мусульманской элиты, вроде муфтиев) военно-административным контролем над назначением мулл, за открытием мечетей, медресе, мактабов, надзором за вакфным имуществом. По мнению составителей Записок и их комментаторов из Военного министерства, создание духовных управлений в России, с передачей им полномочий «управления своими духовными делами», предоставило до того «разрозненным мусульманам», условия к единению[22] и дало возможность «управлять делами мусульман еще более в мусульманском духе», создав «искуственные условия еще большего сплочения магометан». А в случае основания такого же органа (т.е. Духовного управления) в Туркестане, лишит русское государство возможности борьбы против «убежденных магометан», создаст непреодолимую стену, «через которую трудно будет проникнуть русской культуре, идеям ассимиляции» и т.п. (С. 195, 202-205 «Общего свода»).[23] В результате, как с тревогой отмечают составители документов, «обращение мусульман к христианству стало явлением исключительным, а возвращение к мусульманству некогда отпавших от него – довольно общим» (там же, С. 202).[24]
Другой вопрос, который сильно беспокоил туркестанских экспертов (и, соответственно, военных и администрацию края) – это исламизация татарскими муллами кочевых и особенно оседлых киргиз (то есть предков современных казахов и киргиз),[25] которые рассматривались как наиболее удобный объект ассимиляции, поскольку оставались «индифферентными в делах религии» (там же, С. 202-203, эта же мысль в похожих фразах сформулирована в Докладе генерала Духовского – С. 152).[26] Между прочим, эту же пресловутую «индифирентность киргиз и казахов в делах религии» пытались на протяжении значительного количества лет использовать русские мессионеры, активно распространаявшие свое влияние в степи, будучи поддержанными рядом государственных деятелей метрополии (например, Обер-Прокурором Св. Синода К.П. Победоносцевым).[27] Правда миссионерское движение не увенчалось массовой христианизацией казахов и киргиз, равно как и усилия татарских мулл тоже не привело к серьезному изменению форм религиозности Степи.
Вернемся, однако, к разбираемым документам. Их издатели (А.Ю. Арапов и Е.И. Ларина) полагают, что и Доклад С.М. Духовского, и Записки Комиссии («Общий свод») были «положены под сукно» и не имели никаких практических последствий.[28] Возможно, это соответствует истине, хотя бы потому, что силовой политике в отношении к т.н. «мусульманским окраинам» противостояли достаточно авторитетные государственные деятели, вроде тогдашнего министра финансов С.Ю. Витте.[29] Он обвинил генерала Духовского в крайностях и в его «отрицательном отношении к мусульманству», отметив, что андижанские события вызвали к жизни призрак «панисламизма».[30]
Между тем, сам генерал Духовской три года оставался в качестве губернатора и значительную часть предложенных им мероприятий все-таки успел выполнить. В том числе крайне жестоко расправиться не только с участниками Андижанского восстания, но и с ни в чем не повинными людьми, демонстрируя ту самую «непоколебимость и твердость», которую предлагал в названных выше документах возвести в ранг всеобщей политики Империи по отношению к «обласканным русской властью мусульманам».
Что касается культурной и правовой ассимиляции местных мусульман, то основной вектор действий в упомянутых документах предлагалось направить на усиление так называемого «русско-туземного» образования, а также на попытку легитимировать гражданские суды в мусульманской среде, уже функционировавшие в других районах империи. Однако местные эксперты с нескрываемой досадой писали, что в массовом порядке такие школы открыть не удается и что пока мусульманских учебных заведений (по понятиям того времени распространяющих «фанатизм и мракобесие») значительно больше чем русско-туземных.[31]
Цивилизаторская миссия и «исламская угроза»
(«… выступления, подобно андижанскому возможны и в будущем»)
Миссианство как особая идея «политической легитимации» завоевания Туркестана фактически сформировалась уже при генерал-губернаторе К.П. фон Кауфмане, инициировавшего и финансировавшего ради этой цели ряд архивных проектов (являвшихся фактически продукцией разнообразного и интеллектуального творчества).[32] Заметим, что первый всплеск миссианской идеи (в виде массы публикаций «о великой миссии России в Туркестане» в научно-популярных и популярной переодической печати) связан с обоснованием ликвидации Кокандского ханства (1876 г.).[33] Именно тогда вновь активно обсуждалась, условно говоря, «миссианская формула» колонизации, как «цивилизаторского блага» для покоренных народов.[34]
Скорее всего для военных и политиков русского Туркестана риторика «просвещения и цивилизаторства» оставалась лишь необходимым антуражем вполне прагматичных целей процесса «покорения окраин», или, по выражению С. Горшениной – способом «политической легитимации» завоевания[35], каковая позиция появилась и стала вноситься в политический и даже военный лексикон (наряду с такими как «замирение», «завоевание», «продвижение»), главным образом, во времена первого «устроителя края» К.П. фон Кауфмана.
Такого рода самовнушенные оценки часто выглядели и как самооправдания, что, со временем, действительно сформировало ощущение собственной «высокой цивилизаторской/просвещенческой миссии», пусть даже эта миссия выполнялась с помощью силы или вопреки желанию местных народов. Эта же самооценка, в той или иной степени, оставалась своеобразным ориентиром для многих русских исследователей края, каковым были, например, Н.П. Остроумов (1846-1930) и отчасти В.П. Наливкин (1852-1918). Хотя позиция последнего менялась на диаметрально противоположную, в результате влияния множества обстоятельств, в том числе и личного порядка[36]. А тот же Н.П. Остроумов действительно приложил изрядное усердие в деле «образования туземцев», но в том виде, каком он и его единомышленники это понимали.[37]
Как сказано, андижанские события вновь оживили политический, миссианский и отчасти исследовательский интерес к исламу, или, пользуясь формулой того времени, «магометанскому/мусульманскому вопросу», стимулируя появление ряда публикаций и оценок академических исследователей, политиков (о них ниже).
Знакомство с названными выше документами и особенно публикациями местных экспертов, вызванных андижанскими событиями, оставляет впечатление, что этот всплеск споров и информации был стимулирован теми колониальными экспертами (в том числе и Н.П. Остроумовым), кто в корне был несогласен с политикой «последовательного игнорирования мусульманства», «невмешательства в их духовные дела», инициированной первым генерал-губернатором Туркестана фон-Кауфманом. При этом Андижанское восстание было использовано скорее как повод пролоббировать идею об ужесточении административного контроля в «мусульманском вопросе», с использованием искусственно созданной «исламской опасности».
Более трезвую оценку, как самого восстания, так и масштабов «исламской угрозы», как представляется, предложил С.Ю Витте, мнение которого, возможно, сформулировали академические исследователи санкт-петербургской школы востоковедения.[38] В подписанной С.Ю. Витте «Записке» (упомянута выше, прим. 23), выступления, подобные Андижанскому восстанию, оцениваются как «мелкие вспышки религиозного фанатизма», которые «едва ли правильно было бы принимать в расчет в смысле характеристики отношений всего мусульманства к русской власти: возмущения на почве невежества … случались и среди коренного русского населения» (С. 249-250). С.Ю. Витте также справедливо полагал, что мероприятия, предложенные С.М. Духовским, могут породить неприязненное отношение к России не только внутри СА, но и во всем мусульманском мире (С. 254-55).
В действительности обвинения С.Ю. Витте своих оппонентов в крайних оценках были адресованы не только и не столько самому С.М. Духовскому.[39] Они напрямую касались и тех, кто в действительности составил названные документы. Очевидно, это были эксперты, подобные тем, кто принимал участие в составлении знаменитой тогда публикации по исламу – «Сборник материалов по мусульманству» (по крайней мере, некоторая часть тех же авторов).[40]
Менее известен по этому поводу критический «Доклад» мусульманского офицера на царской службе Абдулазиза Давлетшина (мусульманское имя – ‘Абд ал-‘Азиз Давлат-шāх).[41] Здесь автор (тогда еще капитан) тоже достаточно прозрачно намекает на то, что призрак андижанских событий стал причиной односторонних оценок авторов собственно ислама и мусульман. А. Давлетшин, между прочим, открыто признал «рутинность и костность» большинства мусульман того времени, в том числе и застойных форм мусульманского образования в Туркестане, однако призвал отделять «истиный дух ислама» от исторически сложившихся форм ислама и «наслоений позднейших толкователей», или от «прибавлений и разъяснений позднейших толкователей». И особенно категорично он возражает против тезиса в «Сборнике» о том, что «мусульмане самые непримиримые враги христианства, и что ислам учит ненавидеть все прочие религии, предписывает истреблять христиан при всяком удобном случае». А. Давлетшин резонно замечает, что такого рода характеристики (без знания основ ислама) будут вызывать недоверие и вражду по отношению к «туземцам» Средней Азии. А у мусульман подобное суждение об их религии оставляет «чувство … глубокой обиды и способствует к еще большему увеличению исторически сложившейся розни».[42]
Примерно через десять лет дискуссии по «мусульманскому вопросу» вновь были оживлены, и связано это было с именем министра Внутренних дел и Председателя Совета министров (с 1906 г.) П.А. Столыпина. На этот раз их стимулировали новые вызовы целостности Империи (как тогда сочли в высших эшелонах органов безопасности) – «панисламизм» и «пантюркизм». Не останавливаясь подробно на соответствующих документах (опубликованных в упомянутом сборнике «Императорская Россия…» и адресованных в Совет министров), отметим следующие, интересные для наших целей положения в них.[43] Здесь фактически в более мягкой, но расширенной форме повторены положения и предложения вышеназванных документов, подписанных генералом Духовским (и даже прямой ссылкой на них). Отметим два важных акцента в документе.
- В документах де-факто предложено отказаться от политики «игнорирования ислама», на фоне роста «панисламизма», грозящие, как полагали составители, государственным интересам. По мнению русских дипломатов и жандармских служб, эта идеология исходила из Турции, отчасти Индии.
- Послание П.А. Столыпина внешне отказывается от миссианства и предлагает осторожное и тактичное отношение к мусульманам, не задевая их религиозных чувств. Однако предлагаемые его экспертами (прежде всего, А.Н Харузиным) масса мероприятий де-факто все еще несут дух миссианства и основаны на идее «ускорения культурной ассимиляции».[44]
Похоже, что Записки П.А. Столыпина не были реализованы в полном объеме, в связи с его убийством в Киеве террористом (сентябрь 1911г.). Положительным последствием повтороного «возбуждения мусульманского вопроса» было оживление исламоведческих исследований на более академическом уровне и даже проекты по созданию специальных курсов по исламоведению и основанию журнала.[45]
«Большинство из нас – плохие культуртрегеры, … не подготовленные к своей службе в иноплеменном и иноверном крае»[46]
Итак, новое оживление дискуссий на рубеже веков по «магометанскому/мусульманскому вопросу» фактически было начато как своеобразная реакция на Андижанское восстание. Интерес и дискуссии в известной степени были инициированы туркестанскими экспертами вроде В.П. Наливкина и Н.П. Остроумова.[47] Первый из них, кроме личного участия в подготовке указанного «Доклада» генерала Духовского, составил самостоятельную экспертную записку по поводу «мусульманского газавата», который, по его мнению угрожал России, и в целом «христианской культуре»; основанием к опасениям В.П. Наливкина стали статьи индийских «реформаторов» ( т.е. представителей группы исламских интеллектуалов «ал-ислāхийа»).[48] В подходах и оценках «исламской угрозы» В.П. Наливкина (по крайней мере, на то время) ощущается его двойственное отношение к исламу и мусульманам. С одной стороны мы видим интересные публикации этого незаурядного исследователя, где обнаруживается иногда довольно теплое отношение к некоторым «нравам и обычаям» местного населения.[49] С другой – мы видим его непосредственное участие в составлении экспертных записок, стимулирующих преимущественно силовое давление на мусульман, либо указывающие на их опасность по отношению к русским, в целом христианам и европейцам. Хотя в массе других (более поздних) работ, когда В.П. Наливкин становится на платформу социалистов, он прямо раскаивается в своем участии по созданию образа «опасного туземца». Об этом писал С.Н. Абашин, резонно замечая, что деятельность и трансформации (иногда прямо противоположные) В.П.Наливкина в отношении к мусульманам и исламской культуре показывают довольно сложные (иногда психологические) метаморфозы, происходившие с позицией и оценками русских «ориенталистов».[50] Однако вопрос о степени влияния В.П. Наливкина-либерала (и ему подобных, если таковые были) на реальную политику в Туркестане остается открытым.[51] Во всяком случае, здесь и ниже, наши рассуждения касаются преимущественно периода до и сразу после Андижанского восстания, так сильно повлиявшего на позиции значительной части русских экспертов края.
Судя по названным документам, а так же по массе опубликованного материала, касавшегося Андижанского восстания, заметно, что местные эксперты туркестанской колонии (так называемые «практические исламоведы») изучали и шар‘иат и другие исламские науки как заведомо чуждые (а порой и как враждебные) «правила жизни и религию туземцев». Такое миссианское отношение (а у некоторых экспертов, как, скажем, у Н. Остроумова, фактически миссионерское), зафиксированное в популярных публикациях, и даже некоторых документах того времени, взаимного доверия и, тем более, симпатий едва ли могли прибавить (см., например, вышеприведенные оценки Абдалазиза Давлетшина на публикацию первого выпуска «Сборника материалов по мусульманству»).
Используемые в рассмотренных документах и публикациях того времени специфические характеристики и определения автохтонного населения и их образа жизни (как «дикость», «азиатские варвары», «мусульманские фанатики», «инородцы», «туземцы» и проч.) запрограммировали то самое отчуждение, которое тоже в немалой степени порождало недоверие и даже враждебное отношение к исламу и мусульманам. И такое отношение было вновь «подогрето» Андижанским восстанием.
Между тем, так называемые «практические исламоведы» достаточно поверхностно знали каноны ислама, тем более его правовые, или собственно теологические источники. И это – при отличном знании реального воплощения (или невоплощения) этих канонов в жизнь социума, а также интереснейших наблюдений местных форм бытования ислама, обрядности и т.п. Однако, самое главное, эта когорта экспертов, по всей видимости, долго оставалась под влиянием миссианского отчуждения, внушенного им в тогдашних университетах, либо большей частью на курсах военных школ, в которых, во время их учебы, царили, очевидно, те же идеи, что и в среде образованного общества – о просветительской миссии русского народа в отношении к «диким окраинам». К этому добавлялось долго сохранявшееся мнение о «варварстве магометан», тоже не способствующее преодолению отчуждения. И только повсеместное влияние либерально-народнических и позже социалистических идей серьёзно влияют на позиции туркестанских экспертов,[52] в том числе и по «мусульманскому вопросу», хотя приводили к тем же идеям «скорейшего просветления темной массы туземцев». Конечно, ни В.П. Наливкин, ни даже миссионер Н.П. Остроумов не ставили себе совершенно нереальную задачу о «христианизации» мусульман. Они говорили об образованности (просветлении) и «цивилизованности», в том виде как сами понимали. Другое дело, что внушить свое понимание «массе народа» им не удалось. Для этого требовалась широкомасштабная государственная поддержка и соответствующие ресурсы и, конечно, время. Хотя, надо сказать, что позже точно такие же порывы джадидов заняться «образованием народа» тоже не были встречены с энтузиазмом в среде простых верующих, всегда относившихся с подозрением к новому, тем более, к чужому (см. об этом ниже).
Во всяком случае, долгое пребывание русских экспертов (вроде Н. Остроумова), так сказать, в самой гуще «магометан», близкое общение с ними, очевидно не прибавили энтузиазма и еще больше укрепили мысль большей части из них о невозможности привести к «цивилизованности» (с их точки зрения) инертную массу «магометан». Большинство этих экспертов не смогли преодолеть отчуждения, ни своего, ни, условно говоря, у объекта своих исследований и неудавшихся экспериментов по культурной ассимиляции (по крайней мере, не в таких масштабах, как они того желали тогда). И, кажется, именно эта жизнь в «неродной» среде породила особый (скорее психологический) феномен – многих русских экспертов раздражала «упрямость» местного социума, так трудно поддающегося «культурной ассимиляции» и не понимающего «своего же блага», оставаясь отчужденным и даже враждебным.[53] Судя по названным документам и публикациям того времени (то есть до и сразу после андижанских событий), у местных экспертов и администрации были очевидные (и нередко вполне соответствующие истине) ощущения, что русские принесли мир туркестанцам (прекратив внутренние усобицы и столкновения между ханствами), хотя «неблагодарные туземцы» не оценили этого в достаточной мере и даже поднимают восстания (см. особенно упомянутую «Записку» В.П. Наливкина, очевидно находившегося под влиянием тогдашнего взрыва негодования в среде русских жителей Туркестана, как последствие Андижанского восстания).
Разочарования в возможности «мирной миссии просветления туземцев», видимо, подстегнули саму идею форсировать этот процесс, например, через кардинальное реформирование образовательной системы. Отсюда, похоже, и появились предложения по более активной культурной ассимиляции. Однако известным препятствием этому оставалось устоявшееся со времен фон-Кауфмана правило последовательного игнорирования духовной жизни мусульман, о чем напрямую говорилось в приведенных выше документах. С другой стороны, интенсивная «культурная» и «образовательная» интервенция против исламских традиций и институтов требовала, как сказано, серьезных финансовых вложений, на отсутствие которых жаловался еще Н. Остроумов, утверждая, однако, что кауфманская «политика игнорирования ислама» здесь может привести к опасным для Российской империи последствиям.[54] Тем более, что собственно «ассимиляторская политика» не была ясно сформулирована (кажется, и в остальных частях Российской империи) и по многим причинам не могла иметь, так сказать, «единой программы» и т.п. Между прочим, попытка ассимиляции потерпела крах даже в западном округе империи, где, в отличии от региона Средней/Центральной Азии, у колониальной администрации не было таких явных языковых барьеров и, отчасти, проблем этнического противостояния («славянские народы»). Тем не менее, и там, мягко сказать, неуклюжая конфессиональная политика (через обращение в православие и русскую образовательную политику) поставила под вопрос саму возможность конфессиональной ассимиляции и, как следствие, не могла породить политической либеральности колониальных «меньшинств».[55]
По крайней мере, похоже, что именно Андижанское восстание дало местным экспертам и администрации Средней/Центральной Азии тот самый «аргументированный повод» сформулировать и представить в самые высшие инстатнции собственную точку зрения на формы преодоления отчуждения с местным социумом, которое они более всего ощущали, проживая в этой среде, естественная инертность и консервативность которой порождали у них постоянный психологический и, видимо, отчасти этно-конфессиональный дискомфорт.
В возникшем после андижанских событий недоверии к мусульманам В.П. Наливкина, или того же Н.П. Остроумова[56] были, очевидно, и другие резоны. Судя по их публикациям и секретным запискам, их серьезно насторожили (если не напугали) статьи турецких или индийских исламистов и реформаторов, появившиеся как реакция на колониальную политику Европы и отчасти России. Сам В.П. Наливкин прямо пишет об этом в своей упомянутой выше «Записке», с тревогой отмечая, что такие журналы все активней распространяются в среде российских мусульман, которые тоже участвуют в написании статей антиколониального характера. Хотя, нам представляется, что усматриваемая среднеазиатскими «экспертами по исламу» угроза «общеисламского газавата» в такого рода публикациях не могла обрести предполагаемых масштабов. Напускной «религозно-сакральный» энтузиазм таких статей и призывов исламистов едва ли давал основания к заключениям о «единении мусульман» и, соответственно, нарастающем масштабе «исламской угрозы», если исходить из реальной оценки тогдашнего исламского мира, раздираемого противоречиями.[57] Между прочим, собственно исламский «модернизм» (в формах «панисламизма», или даже «пантюркизма») с крайней неприязнью воспринимались и внутри самого мусульманского общества, особенно в среде традиционалистов Туркестана и ханств. И, тем более, не было оснований видеть угрозу возможного объединения мусульман под эгидой разваливающейся Турецкой империи.
В целом движение младотурок, татарских «ислахчилер» (джадидов) и др. подобных религиозных движений, организаций или сообществ (так или иначе влиявших на Туркестан), не вполне правомерно назваемое иногда «панисламизмом» (в более современном звучании «джадидизм»), никогда не было единым политическим или религиозным движением (единым ему так и не суждено было стать), оставаясь в виде абстрактной и утопической идеи. Тем более, его политический потенциал и значение, очевидно, сильно преувеличены, о чем писал еще В.В. Бартольд.[58] Между прочим, брожение умов и недовольство политикой агонизирующей Российской Империи было характерно не только для «мусульманских окраин» или даже среди части политической элиты в Санкт-Петербурге и Москве. Более активными и реально опасными оказались другие (народнические, социалистические и проч.) движения, жертвами которых пали не один градоначальник, министры и даже Император.
Во всяком случае, глубокого понимания, что русские на южных окраинах империи столкнулись с «другой» или «непохожей» культурой, пусть в кризисном состоянии (как это предлагали понимать такие востоковеды и исламоведы как В.В. Бартольд, археолог и востоковед В.Л. Вяткин, а позже и сам В.П. Наливкин), у значительной части «практических исламоведов» (или «ориенталистов») не сформировалось. Внушенное представление о том, что культура народа, «стоящего на более низкой ступени развития» должна быть заменена на «более высокую», так и не была изжита полностью в этой среде.
Тем не менее, такого рода естественные «издержки» отнюдь не означали, что имперские, цивилизаторские, европо-центристские, или даже славянофильские формы мышления исключали либерализм, гражданственность и известную долю толерантности. Они были и, естественно, оставались в той форме, какой их понимали носители этих идей, или воспринимало общественное мнение метрополии. Символические категории того времени, очевидно, не должны меряться «сегодняшним аршином». Тем более, что в самой Российской империи уже появлялись исследователи и политики, мыслящие иными категорями и символами (то есть, в современном понимании – более сложными императивами), когда речь шла о «присоединенных народах/иноверцах». Однако и сами «знатоки края» («русские ориенталисты») тоже менялись, и меняла их, очевидно, сама среда, воздействие которой еще предстоит исследовать. Тем не менее, как это хорошо видно по биографии того же В.П. Наливкина, русские «ориенталисты» оказались в роли не только «культуртгеров», пытаясь «цивилизовать туземцев», но и сами подвергались влиянию «иной культуры», стараясь использовать новые либеральные идеологии в своих отношениях с «туземцами».
Самый символичный пример в этом отношении В.П. Наливкин призывавший «посмотреть иначе на туземцев» (особенно в момент своего непосредственного вовлечения в революционную элиту в 1917 г.), и преодолеть отчуждение с ними, хотя это ему удавалось с трудом. Симпати и разочарования, исключительное внимание и равнодушие, которые сопровождали карьеру и жизнь этого человека закончились трагическим самоубийством.[59] Другой пример похожей научной и личной судьбы русского ориенталиста – А.Н. Вышнегорский, который после долгого пребывания в Туркестане и научной (экспедиционной) работы[60] совершенно влился в «сартскую» (местную узбекскую, таджикскую) среду, внешне не отличаясь от них и восхищаясь «их культурой», особенно суфзмом. По впечатлениям В.В. Бартольда, встречавешгося с ним, А. Вышнегорский сожалел, что собирал материал для Н. Гродекова,[61] и видимо осуждал русских, не «понимающих местной культуры». Однако затем и с ним произошла совершенно неожиданная (или, наоборот, вполне ожидаемая) метаморфоза: совершенно разочаровавшись в местном населении, он прекратил всякие общения с «сартами» (узбеками, таджиками) и умер в нищете.[62]
В рамках того же дискурса о «русском ориентализме» интересно было бы изучить так же и примеры конфессиональной конвертации (то есть принимавших ислам) русских специалистов, кто всерьез увлекся местной культурой и искренне старался «приблизить взаимопонимание». Речь идет о русских учителях русско-туземных школ, среди который встречались и такие, кто принимал ислам и даже менял имя,[63] хотя многие не сумели (в силу разных причин, и, прежде всего этно-конфессиональных) долго оставаться «конвертированными» и возвращались в лоно православия часто с психическми проблемами. Видимо «общественное мнение» (как русских в Туркестане, так и самих туркестанцев) подспудно преследовало такого рода специалистов, так и оставшихся между этносами и конфессиями, что порождало и психологические травмы. Судьбы этих незаурядных личностей по своему символичны для значительной части «русских ориенталистов» (и русских колониальных специалистов вообще), мятущихся между глубокими симпатиями и разочарованиями к предмету своего изучения (обучения) и внимания.
«Не слушай тех неверных христиан»![64]
Итак, Андижанское восстание, кроме всего прочего, ясно показало, что Туркестанский край лишь внешне выглядел «замиренным» и отношение к колонизаторам в среде простых верующих, кто составил основной костяк восставших, оказалось далеко не дружественным, по, крайней мере, среди той части простолюдинов, кто так или иначе пострадал от нарастающей капитализации промышленности и сельского хозяйства края. Между тем, русские эксперты края общались преимущественно с той частью интеллектуальной элиты, которая тоже по своему стараясь извлечь для себя выгоды из общения с «русскими властителями», и особенно с экспертами. Эту социальную дистанцию, отделяющую «русского эксперта» от «простых мусульман», пытались преодолеть, насколько нам известно, не так много знатоков края. Это упомянутые В.П. Наливкин[65] и А.Н. Вышнегорский.
Интересно, что значительная часть местных интеллектуалов осудила Андижанское восстание и особенно ее лидера Дукчи Ишана, создав критический цикл стихов (Дукчи Эшон хажвийаси), с неизменным эмфазисом на нелегитимном статусе «ишана из черни», посмевшим нарушить традицию и объявить газават.[66] По сути такие стихи и соответствующие ремарки в исторических сочинениях интеллектуальной и религиозной элиты местной общины тоже символизировали то серьёзное внутриконфессиональное отчуждение (между элитой и «чернью») и социальную дистанцию, которую эта элита не смогла (а часто и не пыталась) преодолеть, в том числе и наиболее социализированные из них – джадиды.[67]
Возможно поэтому местные ителлектуалы не могли иметь решающего влияния на большинство простых верующих, больше прислушивавшихся к деревенскому мулле, точнее к консерваторам-традиционалистам, которые сами являлись частью привычных и традиционных символов и обычаев, господствующих в среде простолюдинов. И, судя по житию Дукчи Ишана, его окружали именно такие простые верующие, которые видели в своем предводителе (муршиде) близкий и понятный образ «своего шейха», готового доступно и внятными символами объяснить причину проблем разорившегося просителя.[68]
Сейчас трудно сказать, удалось ли Дукчи Ишану внушить последователям свое понимание джихада (газавата), только значительная их часть, похоже, вполне положилась на предложенную их предводителем религиозную легитимацию самого выступления. И те методы и аргументы, к которым прибегал Дукчи Ишан в своей «пропаганде» (легитимации), были традиционными. Это особенно заметно в его произведении «‘Ибрат ал-гāфилин» (Назидание заблудшим). В нем он фактически продолжил былую критическую традицию назидательных произведений, которые в первые годы колонизации у некоторых местных авторов обрели очевидный антиколониальный оттенок (см. ниже).
Во всяком случае, отчуждение (во многом естественное и историческое) было уделом не только значительной части русских «экспертов края», особенно тех, кто оказался в «гуще магометан». Еще на ранних порах российской колонизации и «покорения края» местные мусульманские сообщества не могли безпристрастно принимать сам факт захвата их территорий. Тем более, что такое противостояние с русскими вполне можно было обосновать как сакральное предписание «напавших первыми неверных» на территорию ислама, а, следовательно, легитимирующими джихад, даже в случае, если имам/халиф не объявят его, так сказать, официально. Собственно на начальных этапах так и происходило, если вспомнить движения газиев (в основном молодых студентов медресе) в столкновениях Бухары с русскими,[69] или вооруженные акции против Худайар хана перед ликвидацией Кокандского ханства (например, «восстание Афтобачи»[70]) и т.п. Однако, серьезного масштаба такого рода движения не обрели и не могли обрести, несмотря на их внешнюю легитимность (в виде газавата), поскольку к моменту русского завоевания идеология ислама и исламские институты были сильно ослаблены в результате глубокого политического и морального кризиса, охватившего ханства, раздираемые внутренними и внешними усобицами.
И, между прочим, тот факт, что русское завоевание остановило бесконечную и разорительную череду внутренних и внешних междоусобиц, отмечают не только русские источники того времени. Большинство местных авторов (даже оставаясь на позиции крайней неприязни к «неверным») пишут о благотворительных последствиях русского вторжения, имея в виду остановку междоусобиц. Хотя едва ли можно было ожидать от местных мусульман безусловного и доброжелательного отношения к колонизаторам, имея в виду не только то, что собственно завоевание произошло насильственно (даже при некоторых положительных для местного населения его последствиях), но еще и многовековую изоляцию и отчуждение, которые вряд ли можно было преодолеть за несколько десятилетий. Однако позже, когда была реализована политика «невмешательства» и «игнорирования духовной жизни мусульман», большинством местных улемов территория Туркестана была признана «территорией согласия/мира» с «неверными» (дāр ул-ахд, дāр ул-сулх), что принесло стабильность (по тогдашней формулировке – «замирило») в значительно большей степени, чем некоторые сомнительные мероприятия местной администрации, как например, не вполне адекватная реакция на тоже самое Андижанское восстание.[71]
Между прочим, на первых порах колонизации восприятие русского владычества и попытки ассимиляции (в том числе и правовой) отчасти повторило в Туркестане аналогичные восприятия татарским миром русского владычества – как устройства и права конфессионального.[72] Как и в Поволжье настойчивые попытки ассимиляции (правда, малоэффективные) приводили к попыткам самоизоляции общины и усилению роли шар‘иата в повседневной жизни – как единственной возможности противостоять культурной ассимиляции, которая едва ли могла выглядеть как легитимная (даже в форме обязательного введения русского языка в мадраса, или малопопулярного русско-туземного образования и т.п.).[73]
В активности мулл из татар и башкир (этносов, которые сами на протяжении долгого времени оставались объектом попыток христианизации), очевидно, можно усмотреть фактическое фиаско многолетнего миссионерства Православной церкви. Хотя со временем Имперские власти стали проводить более взвешенную политику в отношнении миссионерства, ограничивая, во всяком случае, насильственное обращение. На этом фоне значительно больший успех проповедей (да’ва) татарских и башкирских мулл в Степи объясняется не только близостью их языка к проживающим там тюркскоязычным народам, но и тем, что эти народы (пусть даже отчасти номинально) давно признавали себя мусульманами. Одновременно надо отдать должное правительственной политике Российской империи, для которой призывы администраций «мусульманских окраин» об ассимиляции чаще всего оставались терпимой риторикой (на страницах статей в миссианском духе и им подобных записок). Хотя и такая (относительно толерантная) позиция не разрушала взаимное отчуждение, но и одновременно порождала относительную терпимость в повседневной жизни.
Возвращаясь к сказаному выше, заметим, что российская колонизация Туркестана не могла не усилить исламскую (и отчасти этническую) идентичность местных народов (в первую очередь в среде улемов-традиционалистов и близких к ним простых верующих), что выглядело как своеобразная защитная реакция.[74] В степных же районах этот процесс кажется выглядит как фактическая (но не тотальная) реисламизация кочевников. Об этом тоже прямо пишут составители названных документов, опасаясь, что к российским мусульманам прибавляется еще 5 миллионов активно исламизируемых «киргиз/казахов Степи» (см. выше). Хотя, в целом и такие тревоги русских экспертов и политиков кажутся серьезно преувеличеными, так как реально широкомасштабной и полноценной исламизации казахов и киргиз татарским муллам осуществить не удалось. Тем более, что частичная исламизация не привела эти племена к ожидаемой названными русскими экспертами «антигосударственному настрою».
В так называемых «оседлых» или «полукочевых» районах Трансоксианы тоже отмечаются другие формы призывов «крепить ислам и шар‘иат», особенно после ликвидации Кокандского ханства (1876). Это заметно и по продукции религиозного творчества. Например, в среде мусульманских улемов Туркестана заметно оживилась (по сравнению периодом ханств) составление и массовая переписка простейших теологических компедиумов на местных языках, с изложением элементарных требований шар‘иата, предписанных ритуальных норм (фард/фарз). Они были рассчитаны на простых верующих. При этом в относительно стандартных «предисловиях» (мукаддима) такого рода сочинений особый акцент приобретают мотивы авторов (часто анонимных), сетующих на существующие трудные условия «для сохранения чистой веры» (в основном в связи со все более частыми и более тесными общениями части мусульман с «русскими христианами»). И это, мол, станет причиной «конца света» (āхират замāн), что заставляет «имярек» автора вновь напомнить о религиозных и моральных обязанностях правоверного.
Один из таких компедиумов (в ряду самых обширных по объему – 92 лл./184 стр.) принадлежит перу знаменитого историка Муллā мирзā ‘Āлим ибн Мирзā Рахим Тāшканди.[75] Обратиться к этому (а заодно и к другому более символичному произведению Муллā ‘Āлима, тоже написанному до Андижанского восстания) нас заставляет наличие на нескольких листах рукописи печати ханаки Дукчи Ишана. Очевидно, рукопись происходит из известной библиотеки Дукчи Ишана, часть которой была утрачена и часть была описана уже в наше время.[76] И значит мотивы в произведениии Дукчи Ишана вполне могли быть заимствованы у Муллā ‘Āлима, особенно, что касается критики религиозной аристократии и богатой элиты, «смешавшихся с русскими». К тому же оба принадлежали к одному суфийскому братству Муджаддидийа/Накшбандийа.[77]
Итак, в предисловии Муллā ‘Āлим напрямую связывает «ослабление ислама и мусульман» с ликвидацией русскими Кокандского ханства (лл. 1б-2а). И еще больший акцент на негативных (с точки зрения автора) последствиях прихода русских он делает в своем историческом сочинении.[78] Между прочим, его «История», составленная несколько лет спустя после названного упрощенного теологического компедиума (до 1886 года), предваряется таким же предисловием, с апокалиптическим толкованием «прихода русских». И самое интересное, критический взгляд на политические и межэтнические неурядицы (как религиозно нелегитимные мятежи – фитна) периода ханств завершается вполне ожидаемым выводом: русские присланы Аллахом как наказание за бесконечную смуту при ханах и прямые нарушения шар‘иата (Л. 158 а,б).
Между тем, автор служил при дворе последнего хана Коканда Худайар-хана и был свидетелем всех политических и межэтнических (в среде тюркских племен) неурядиц последнего правления этого хана (1865-1875),[79] например, выступления ‘Абд ар-Рахмана Афтобачи (бывшего советника и приближенного Худайар-хана), которое было подавлено войсками генерала Скобелева. И это обстоятельство серьезно повлияло на позицию автора, определив его неприязнь к русским. Однако, автор, будучи обласканым Худайар ханом, забывает добавить, что сам хан фактически призвал русские войска «на помощь», поскольку основная риторика восставших была связанна именно с антирусскими лозунгами и «газаватом против неверных, и продавшегося им хана»[80].
Итак, обратимся к тем парадигмам Муллā ‘Āлима, которые, как он полагает, следует оценивать как «потерю» («продажу», «попрание») истиной веры. По мнению автора подражание русским (в поведении, или одежде), даже заимствование их вещей – признак утраты веры и надвигающегося апокалипсиса.[81] И, кстати, появление модернистских течений в местной среде мусульман (тот же «джадидизм» в разных проявлениях), особенно их предложения что-то заимствовать у русских, тоже воспринимались традиционалистами того времени как «религиозный раскол» и, значит, как еще один из признаков предверия «конца света».[82]
Очевидно, что опасения таких авторов как Муллā ‘Āлим, или Дукчи Ишана по поводу возможной «потери ислама», следует воспринимать как позицию традиционалистов (за которыми стояло большинство простых верующих), опасающихся возможной утраты единственно понятных, сакральных, а значит религиозно и морально легитимных предписаний, образа жизни. Судя по сочинениям Муллā ‘Āлима (особенно его «Истории»), новые условия он воспринимал как морально и даже «этнически»[83] крайне некомфортные, так как новоявленная (русская/христианская) альтернатива проявила свое политическое и экономическое превосходство, сумев достаточно легко покончить с кокандским ханством и приблизить к себе религиозную и экономическую элиту (ишанов, кадиев, мулл и баев), подкупить расположение племенной аристократии.[84] И это «превосходство» воспринималось традиционалистами как вызов. Единственный ответ на такой вызов, по мнению того же автора – избегать «смешиваться с русскими» (прежде всего, в религиозном смысле этого предписания). То есть, мы видим прямой призыв к мусульманам сохранить свою религиозную идентичность, дистанциироваться от «неверных», а значит фактически продлить былую замкнутость. Как и в остальных уголках мусульманского мира, подвергшихся колонизации европейцев, но не имеющих реальных сил для сопротивления, в среде традиционалистов Туркестана заметно усиление настроений ожидания Мессии (Махди). Не избежал этого и Муллā мирзā ‘Āлим, даже назвав «точную дату» прихода Махди – 1304/1886-87, когда беспощадный Мессия освободит мусульман от неверных (кāфирлардин мусулмāнни халāс итар).[85]
В таком же стиле, между прочим, составлено собственное сочинение Дукчи Ишана «‘Ибрат ал-гāфилин», которое тоже можно и нужно рассматривать в ряду названных компедиумов традиционалистов, апеллирующих к простым мусульманам, дабы «сохранить их веру». И если учесть, что первое из описанных выше произведений Муллā ‘Āлима очень близко по мотивам к сочинению Дукчи Ишана, то схожесть мотивов и аргументов «ослабления веры» отнюдь не случайна. Сочинение Дукчи Ишана тоже изложено вполне в традиционном виде, в очень легко воспринимаемой стихотворной форме.[86] Здесь мы видим те же мотивы, что изложены у Муллā мирзā ‘Āлима, с той же жесткой критикой «продавшихся русским» религиозной аристократии, баев и т.п.[87]
В действительности используемые обоими авторами клише в критике религиозной аристократии и политической элиты хорошо знакомы и по «наставительной литературе», поэзии и даже историческим сочинениям, написанным до русской колонизации (например, сочинения того же религиозного пуритатнина Ахмада Даниша, или другого именитого историка-хрониста Хаким-хāна), у которых критика, обличенная в те же самые формы и клише, никак, однако, не связана с русскими («неверными»).[88] После завоевания края Российской империей (частичной колонизации и протектората над двумя ханствами), эта критика обрела как бы «второе дыхание» и более ясный внешний стимул. Религиозная пуританская риторика в среде традиционалистов усиливается, большинство прецедентов «плохих нравов» связываются уже с русскими («чужими», «неверными»), или с «продавшимся русским» религизной аристократией и даже ханами.
Усиление такого рода риторики (по своему «гиппер-исламизированной») в сочинениях традиционалистов с началом русской колонизации тоже стало своеобразной реакцией на приход «чужих», как единственно понятная и легитимная попытка самосохранения (естественно, в том виде, каком это воспринимало большинство традиционалистов и находившихся под их влиянием простых мусульман). Тем более, внушить «массе единоверцев» то, что любое отступление от привычного уклада – есть отступление от сакральных предписаний, было гораздо легче, ибо социальная и религиозно-ритуальная инерция, вера в сакральность «обычая отцов», образа их жизни всегда сопровождает жизнь простолюдина. И такая форма своеобразной реакции, естественно, не могла не привносить элементы прямого отчуждения с «неверными», «чужими», которое невозможно было преодолеть за несколько десятилетий, как того желали колониальные власти, и особенно русские эксперты по «мусульманскому вопросу».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Андижанское восстание, при всех его трагических последствиях (на основе искусственно раздутой «угрозы»), осталось локальным, даже в пределах Ферганской долины (Андижан, Ош и округа), и его никто серьезно не поддержал – ни собственно в колонии, ни в ханствах. Скорее наоборот, чаще можно было услышать обвинения в том, что «негармотный Ишан из черни» нарушил существующую «мирную фетву с Белым царем». Локальность восстания, скорее всего, стала результатом достаточно взвешенной политики (в том числе и по самому больному вопросу – «магометанскому», в самом широком смысле этого определения), начало которой было положено К.П. фон Кауфманом.
Одновременно для большинства русских экспертов Туркестана и колониальной администрации Андижанское восстание послужило еще одним стимулом всплеска недоверия к мусульманам (несмотря на влияние либерализма в тогдашнем понимании), подогрела былые опасения, и еще долго упоминалось во множестве научных и особенно популярных публикациях того времени, причем как очевидный пример «неблагонадежности мусульман», их неправильной реакции на «высокую миссию России» и т.п. И наоборот, реакция большинства мусульманских интеллектуалов оказалась противоположной, но отнюдь не подобострастной. Судя по большинству приведенной А.Эркиновым подборке «анти-ишановских» стихотвороных виршей,[89] такая реакция вполне соответствовала давней традиции, согласно которой предписывалось не раздражать более сильного противника и искать копромисс с ним («фетва с Белым Царем»). Нарушение же компромисса, воспринималось как религиозно нелегитимное действие.
Однако идея копромиса («фетвы с Белым царем») возникла не сразу, хотя сразу стимулировало масштабные размышления местных богословов и особенно пишущей интеллигенции. В сочинениях местных авторов, вроде Муллы ‘Алима, мы видим, что завоевание края «чужими» заставило взглянуть на себя по-другому и поставить вопрос – а кто мы? Кажется, это самый показательный пример попытки взглянуть на себя и как на этнос. Не случайно автор в предисловии своего сочинения («Ансаб») рассуждает об узбеках и их истории, пытаясь даже сакрализировать ее; он вновь «создает» родословие узбеков, возводя его к ветхозаветным пророкам. И хотя этот «узбекский национализм» у автора был в зачаточном состоянии (при доминировании исламской идентичности), заметно, что он появивился еще как одна защитная реакция на приход «чужих».
Однако позже, когда более осторожная конфессиональная политика по отношению к местному населениею, продолжала доминировать (несмотря на отдельные попытки некоторых экспертов и чиновников усилить контроль в сфере «мусульманского вопроса», в том числе и в связи с Андижанским восстанием), количество «антирусских опусов», составляемых традиционалистами, резко сократилось. Напротив, появляются другие сочинения, в которых авторы говорят о необходимости использовать достижения русских и призывали к более открытым отношениям с ними.[90]
Примером таких трансформаций взглядов традиционалистов может так же служить и тот факт, что восстание Дукчи Ишана осуждалось в кругу историков-традиционалистов, писавших в начале ХХ века. Наиболее обширные теологические оценки (с очевидной делегитимацией) восстания Дукчи Ишана («свершенное по безрассудству и безумию») сделаны историком Та’ибом.[91] Более того, это восстание осуждали другие историки, чья антипатия к русскому владычеству была тоже очевидна. Например, знаменитый бухарский историк Мирза ‘Абд ал-‘Азим Сами (1837–1906) крайне неприязненно говорит о Дукчи-Ишане и его восстании[92].
Во всяком случае отношение местных мусульман к колонизаторам (в том числе и отрицательное) зависело от множества обстоятельств, меняясь во времени и пространстве. Мы видим разные прецеденты и публичные выражения такого отношения. Однако не вся палитра мнений получала огласку и дошла до нас, что в целом крайне затрудняет возможность разглядеть и анализировать взгляды разных слоев «туземцев» на русских. Ведь официальная цензура, по понятным причинам, старалась «пропустить» в печать преимущественно положительное восприятие колонизаторов. Поэтому в этом отношении критический взгляд самих русских ориенталистов на собственные действия и взаимоотношения с местным населением, его отношением к русским, приобретают исключительное значение. Самым значительным примером такой самокритики и одновременно критики предмета своего исследования – «туземца» − мы видим у Н.П. Наливкина (особенно в его книге «Туземцы раньше и теперь»).
Не менее интересны в этом отношениии рабты русских академических востоковедов. За четыре года до Андижанского восстания русский востоковед Н. Веселовский[93] опубликовал любопытный рассказ казахского народного поэта муллā Хāли-бāя о русских завоеваниях Аулие-ата, Туркистана и других крепостей до границ Чимкента.[94] Символично было начало рассказа, заключающего призыв к племенам Кокандского ханства (киргизам и кипчакам) − быть настороже, поскольку грозная сила («неверные русские») оказались на пороге «стран ислама». Сам рассказ разбирался Н. Веселовским скорее с исторической точки зрения, но о нем говорилось и в том смысле, что эти стихи оставались популярными в виде искаженных вариаций в народной среде. Контекст статьи призывал к тому, что в колониальной политике следует иметь в виду этот аспект «народной памяти», чтобы исключить необдуманные шаги в колониальной политике. Однако, публикация осталась, похоже, достоянием только академических кругов и резонанса, насколько нам известно, не имела.[95]
Когда мы говорим о русском завоевании и колонизации Средней/Центральной Азии не стоит упускать из виду так же и ближайшую историческую перспективу, а именно, прежнюю историю ханств и особенно состояние ислама (в самом широком смысле) в них. Например, местные авторы, колониальные эксперты, так и позже большинство специалистов писали о «слабой исламизации» территорий кочевых казахов и киргиз. Между тем, в самих ханствах «кочевой элемент» состалял по разным подсчетам от 60 и до 80 %. Особенно это касается Кокандского и Хорезмского ханств. Иными словами, необходимо иметь в виду фактически трибальную структуру социумов и политических (бюрократических) институтов в ханствах (как наследие прошлого), и, как результат, слабость исламских институтов в них, со специфической (по характеристике местных авторов «нешариатской»[96]) ритуальной практикой в этой среде, которую еще со времен колонизации привыкли называть «неисламской», или «доисламскими реликтами».[97]
Между тем, своеобразный исторический парадокс в том и состоит, что реальная и серьезная исламизация горных и степных районов внутри Кокандского и отчасти Хорезмского ханств состоялось именно после колонизации. Это выразилось в обширном строительстве мечетей и школ (мактабов) при них, в постепенной трансформации правововой практики (полный или частичный переход от обычного права ‘āдат к шариатскому), более последовательном следовании нормативным ритуалам, а в конечном счете, усилении исламской идентичности. Первым условием, которое серьезно подтолкнуло эти процессы, стала та политическая стабильность, которая установилась с момента колонизации и протектората Российской империи. Это, в свою очередь, привело к стабилизации и безопасности всех видов коммуникаций и передвижений людей, особенно кадиев и улемов, которые уже могли достаточно свободно проповедовать в горных и степных районах. Например, тот же Дукчи Ишан часто выходил в горные районы Оша и Аравана к киргизам, предки которых, как пишется в его «сакральной биогрфии» (Манāкиб-и Дукчи Ишāн) «не склоняли голов к молитвам…».[98] И такая его «миссия» едва ли была возможна во время существования ханства, когда бушевали страсти племенного сепаратизма, выражавшееся в переодических избиениях и резне между т.н. «сартами» (преимушщественно городскими жителями) и степняками (сахрāйи) разных племен. Особо следует сказать о традиционных религиозных учреждениях (вроде мечетей, мактабов и мадраса), количество которых в период русской колонизации (особенно в провинции) сильно возросло, несмотря на частичное их игнорирование (а возможно и благодаря ему) колониальной администрацией.[99] Это же можно сказать и о казийских судах, которые, при известном контроле колониальных властей, были фактически сохранены в прежнем виде и сумели рапространить свое влияние на ранее слабо исламизированные тюркские племена Ферганской долины вроде кипчаков, курама и киргиз.[100] Внедрение книгопечатания, а затем и газет с журналами на местных языках привели к быстрому распространению религиозной литературы всех видов, что тоже открывало широкий простор для распространения исламской печатной продукции, особенно в тех самых «слабо исламизированных» районах. Я не хочу сказать, что без вторжения русских такие коммуникации и то же книгопечатание не были бы устроены. Однако наверняка этот процесс затянулся бы на многие десятилетия, в связи, повторяю, с крайне враждебными отношениями между ханствами и их внутренней нестабильностью. Таким образом, прямо или косвенно в усилении и даже в восстановлении функций исламских институтов в городской среде, и особенно в селе и степи приняли участие и сами колониальные власти.[101]
Главный вектор колониальной политики сосредотачивался вокруг ислама. К исламу и их носителям обозначились разные подходы и восприятия. Однако пока не совсем ясно, откуда появилась идея «игнорирования ислама». Трудно предположить что в тогдашний Туркестан дошли общеимперские идеи противостояния назревающим нигилистическим (народническим) идеям, когда этой максималистской идеологии решили противопоставить «патриархальную религию» (неважно какой кофессии), без вмешательства в ее внутренние дела.[102] Хотя не исключено, что сам К.П. Кауфман имел соответствующие инструкции относительно «новой линии поведения» в качестве генерал-губернатора, на новом месте и в только что завоеванном (да и то не полностью) крае, тем более что уже имел некоторые отрицательные впечатления от последствий конфессиональной интервенции в западном крае, где был губернатором (1865-1866) до назначения в Туркестан. Не исключено так же, что тамошний опыт К.П. Кауфмана тоже сыграл свою роль в инициировании (или продолжении) политики игнорирования. Например, будучи в западном крае, он пытался внушить своим подчиненным «не проповедовать от имени правительства» (Долбилов, с.237, 253) дистанцируясь от политики миссионерства. Хотя опыт тамошнего обращения католиков в православие (как широкомасштабная акция кофессионального государства) вряд ли можно было использовать в Туркестане, где конфессиональное отчуждение было куда более существенным и догматически непримиримым. Тем более, что отрицательный опыт «русификаторства» и практически насильственное насаждение православия (стимулированное так же и прагматическими «посулами») привел к эволюции конфессиональной политики в Империи (Долбилов, 269-270), в самое начало которого К.П. Кауфман попал в Туркестан.
—
Во всяком случае, как видно из массы документов и публикаций, колониальную администрацию не особенно раздражали инаковость ислама. Для них ислам не становился предметом теологического или конфессионального отвращения, хотя вырабатывал устойчивые фобии, чаще всего в силу плохого знания основ ислама. Примерно такие же позиции были и у местных экспертов. И для тех те и для других ассимиляция (или «цивилизаторство») местного социума подспудно имело цель выработать политическую лояльность главных объектов колонизации – мусульман. Однако само «ассимиляторство» (в тогдашней формулировке) не имело ясной программы и широкой государственной поддержки, предпочитающей держаться на «управлении краем», силе и приближении к себе части туземцев, вовлекая их в низовое административное управление и т.п.[103]
—
Реакция на Андижанское восстание и усиление пристрастного отношения к исламу очень напоминает реакцию на польское восстание 1863 г., которое Россия восприняла скорее как конфессиональное государство.[104] И хотя составители приведенных документов и публикаций с предложениями по урегулированию «мусульманского вопроса» после Андижанского восстания старались отречься от конфессиональной подоплеки собственной реакции на эти события, тем не менее она проглядывается довольно отчетливо особенно в тезисах ожидания «схватки с исламом» в новой его формации (реформаторстве). И кажется именно Андижанское восстание подогрело страсти, и к старым фобиям добавило новые – «панисламизм» и «пантюркизм». (Хотя политически такую реакцию можно вполне понять, особенно учитывая перманентное противостояние с Турецкой империей).[105] И именно здесь конфессиональное отчуждение и инаковость проявились совершенно ясно.
Символичным так же представляется ставший по своему дежурным в колониальной политике поиск антирусских настроений, пропагандируемый «фанатичными подстрекателями», в данном случае − ишанами, дервишами. Осюда в обиход были введены (устоявшиеся еще со времен восстания Шамиля) такие понятия как «дервишеская угроза», «дервишеский газават» и т.п.[106] Такие клише как бы предполагают, что без «подстрекателей», собственно «мусульманская паства» не является носителем конфессионального отчуждения, или же не способна на взрыв негодования. Между тем, у простолюдинов с русской колониальной администрацией было значительно больше проблем, чем у тех же ишанов. Не стоит забывать, что на андижанские казармы большинство участников Андижанского восстания погнало не примитивное желание поучаствовать в газате. Их стимулы в «мщении русским» (по крайней мере большинства из них) были преимущественно экономическими (долговаяя кабала, разорение в результате капитализации сельского хозяйства и неразумной переселенческой политики, потеря земли и т.п.[107]), каковой тезис мы постарались обосновать в одной из наших прежних статей.[108] Задача же «ишана» (в данном случае Дукчи Ишана) была куда более традиционной (вне всякого антирусского подстрекателсьтва) – придать смысл смутному гневу и легитимировать его бездумный порыв, облекая его в абстрактную идею газавата, защиты и восстановления «попранного шариата», в том числе и от «продавшихся русским баев, лже-суфиев, кадиев».[109] И, кстати, об этой кагорте людей, которые были приближены к колониальным властям, с неприязнью писали не только некоторые местные авторы (включая Дукчи Ишана). Их весьма критично оценивал и В.П. Наливкин.[110] Речь, напомним, идет о той части населения, которая извлекла максимум выгод в результате русской колонизации (купеческое и торговое сословие, местная администрация, находящиеся в доверительных отношениях с русской администрацией кадии и т.п.). И, между прочим, Андижанское восстание показало, что приверженность значительной части из них к русским на деле оказалась показной. Иными словами, часть «приближенной к властителям местной элиты» была готова в принципе поддержать Дукчи Ишана, однако ее удерживали «черное происхождение» лидера восстания, а самое главное, отсутствие уверенности, что его авантюра будет удачной. Однако интересно то, что даже тайно и явно его поддержавшие затем быстро «покаялись» и стали переводить деньги на благотоворительные счета в пользу погибших семей русских солдат, либо слать особые «адерса» с выражениями верноподданических настроени.[111] И значит сама внешняя адаптация даже этой кагорты людей (по крайней мере, некоторой части из них) была призрачной, или, во всяком случае, неполной. Любопытно, что сам Дукчи Ишан приспосабливался и искал копромиссы с колониальными властями[112] и одновременно предваряя свое выступление рассылкой множества писем, в надежде на поддержку именно адаптировавшихся, понимая, видимо, что их компромисс с колонистами сродни его адаптации. Между прочим, после Февральской революци 1917 г. произошло похожее явление, когда в среде адаптировавшихся к царским властям стали появляться множество людей, кто уверял о своей ненависти к царизму, «борьбе» с ним, вливаясь в массу вновь образовавшихся политических течений и партий.[113] Не стоит прибегать к этическим оценкам такого поведения. Важнее, что эти эпизоды показывали, что даже адаптация к колониальным условиям (чаще всего с полной выгодой для себя) отнюдь не означала полной ассимиляции, тем более «обрусения».
Однако была и другая значительная группа местных мусульман, кто служил в рядах царской армии и честно выполнял возложенные на него обязательства, заслуживая награды, почет и уважение. Достаточно вспомнить Чокана Ч. Валиханова, полковника царской армии И. Джурабекова, упомянутого выше А. Давлетшина и многих других. Личные мотивы и биографии таких любдей тоже следовало бы изучить, чтобы получить более надежные основания в оценке взаимоотношений колнии и колонистов.
—
Видимо гиппертрофированное ощущение «великоруускости» не могло быть преодолено и у среднеазиатского колониального администратора… Удачным представляется замечание М. Долбилова о том, что в конфессионально и этнически чуждой среде, русские острее ощущали свою русскость и потому старательно ее подчеркивали на окраинах Российской империи, и «говорили о себе как о русских тем запальчивее, чем (больше) ощущали себя в меньшинстве …».[114] Во всяком случае идея ассимиляции едва ли могла быть успешно реализована еще и потому, что собственно титульная «имперская нация» − русские всегда давали неисчислимое количество поводов воспринимать их как «других», (лучших, цивилизованных), легитимируя свое отчуждение, что заведомо обрекало на провал саму идею ассимиляции.
—
В среде простых верующих восприятие русских как носителей культуры (пусть иной) происходило крайне медленно. Собственно колониальные власти крайне вяло стимулировали этот процесс, делаяя по прежнему преимущественную ставку на «управление» краем, каковой термин предполагал в лучшем случае, административное давление, но не столько на заботу о внедрении в сознании местных масс «величия русской культуры», достойной уважения или подражания. Хотя были и интересные исключения. Например, сразу после Андижанского восстания были созданы кружки и «Комиссия народных чтений», на собраниях которых читались на местных языках произведения Л.Н. Толстого, либо лекции о достижениях европейских естественных и наук и техники.[115]
—
Особое место для воплощения довольно абстрактной идеи «ассимиляции» (через не менее абстрактную программу «руссификации»[116]) отводилось русско-туземным школам. Однако их слабая популярность[117] остудила саму идею культурной ассимиляции,[118] вместе с самим проектом «русско-ориентированного» образования. В результате вопрос о полной или даже частичной ассимиляции постепенно сводился к взаимной адаптации (конечно, прежде всего, «туземного населения» к реалиям колониальной политики).[119]
Более живучую и приспособленную к местным реалиям (в смысле языка и конфессии) альтернативу народного образования (в его новом виде) предложили джадиды-татары. Открываемые ими школы на добровольных началах и при поддержке спонсоров из купеческого сословия, по популярности быстро и легко опередили русско-туземные школы и оказались более эффективными.[120] Затем эту традицию в массовом порядке подхватили местные джадиды. И, кстати, в программы большинства этих новометодных школ входил и русских язых. Естественным итогом трансформации взглядов на религиозную политику в Российской империи стал указ «об укреплени начал веротерпимости» (от 17 апреля 1905 года) в целом снявший проблему ассимиляции на государственном уровне.
—
Неудавшийся проект ассимиляции в Средней/Центральной Азии естественным образом трансформировался в разные формы привыкания, приспособления или адаптации. В.П. Наливкин назвал этот этап как «Первым периодом ителлектуальной эволюции», показав, как местное население естественным образом положительно оценивало привнесенные русскими некоторые принципы административного управления, технические новшества, коммуникации и т.п.[121] Естественно, это приспособление и «освоение нового» предполагали известное сближение с русскими, хотя и диктовались прагматическими соображениями, особенно в среде наиболее комуникабельной части автохтонного населения, то есть купцов, местной администрации и пр. Такие виды адаптации политически были непрочны и могли в любую минуту развалиться, как это было во время и после восстания Дукчи Ишана. Тем не менее, имено эта «прагматическая адаптация» оказалась наиболее перспективной и со временем становилась все более прочной и долго действовала даже в советский период, определив политическую лояльность местных элит, а позже и части религиозной элиты.
Другой вид адаптации был связан с техническими и иными заимствованями у «неверных», с каковой идеей выступили джадиды. Но для них заимствования совсем не означали подражание. И если ислампо заключению колониальных администраторов края оставался главным (хотя и не единственным) препятствием ассимиляции, то джадидизм внес еще больший стимул в этот процесс отчуждения. Джадиды сами нашли, как им казалось, более лучшую форму адаптации не только к колонозации. Но они видели свою роль (а заодно всей исламской общины) только в качестве пассивный наблюдателей и «потребителей» технических и прочих новшеств,, но и понимали свою роль как активных участников преобразования старой образовательной системы (с попытками влияния на сознание масс), собственного политического участия в переменах в жизни империи. Казалось бы джадидизм можно воспринимать как форму естественной ассимиляции, поскольку многие из них по облику все больше «европеизировались», знали языки (а некоторые не только русский). Они активно призывали изучать русский язык, европейские науки и методы образования, пытаясь даже легитимировать эту свою активность исламскими же аргументами (своя книга), казалось бы воплощая в себе первоначальные проекты ассимиляторства, внешне даже сблизившись с русскими. Однако, джадидская система образованияя и их проекты социальных и политических модернизаций не сследует рассматривать как ассимиляцию. Напротив, они активно призывали к изучению собственной истории, и на этом основании, к сохранению религиозной а затем и этно-конфессиональной идентичности, отстаивая право на собственную культурную суверенность, пусть даже в составе Российской империи.[122] Хотя в публикациях некоторых из них заметен «общеисламский» (или «общетюркский») контекст, как реакция на колониальную политику ведущих держав мира. Именно такие контексты, как показано выше, напугали многих русских ориенталистов (и затем часть высшей политической элиты империи). А такие, как Н. Остроумов даже отказались от идеи расширения русско-туземного образования, полагая, что политическая лояльность и стабильность может быть достигнута в сотрудничестве власти с «консервативными» («патриархальными») формамами и носителями ислама (включая его традиционные образовательные учреждения). (ссылки на Алексеева, Халида и свою работу). Между прочим, наблюдения В.П. Наливкина тоже показывают, что к началу ХХ века в местном исламском социуме усиливаются позиции «консервативного» (по его выражению «ортодоксального») ислама и растет количество его приверженцев, особенно за счет ожививления деятельности мадрас в Туркестане и в ханствах. Рост непопулярности русских и, соответственно, обращения к исламу (особенно в среде молодежи) как единственной социальной и даже отчасти политической альтернативе В.П. Наливкин связывает это с насильственными мерами и полицейско-административными ограничениями, последовавшими за Андиданским восстанием.[123] Как заметил этот ориенталист-любитель, «народная память вдруг проснулась», вновь обратившись к привычным исламским ориентирам.
Речь, конечно, идет о коллективной памяти, в которой конфессиональный компонент всегда соседствует с историческим. Будучи избирательной, эта память сильно абстрагировала прошлое, связанное с периодом ханств, отпечатав в себе как знаковое событие русское завоевание. Тем более, свежий толчек конфессиональной составляющей коллективной памяти дало Андижанское восстание, так или иначе воспринятое в народной среде как неудавшийся газат.[124] Эта же коллективная память удерживала простолюдина от той самой ассимиляции, на которую так надеялось первое поколение колонизаторов.
Но коллективная память вполне подвержена манипулированию. Это особенно ясно проявилось в советское время, когда такая манипуляция стала возможна через тотальное обязательное/принудительное среднее образование, через СМИ, новые мемориальные памятники, «юбилеи» и т.п.[125] Это в той или иной степени позволило сформировать новую коллективную память местных народов, придав новым компонентам истории скорее националистические черты.[126] Такая динамика коллективной памяти получила название «коммеморации».[127] При всех сложностях и социально-политических драммах, советская манипуляция коллективной памятью выполнила свою задачу, сформировав «новую память» под названиями «история казахов», «история киргиз», «история таджиков» или «история узбеков».[128] Однако коллективная память простых людей (несмотря на коммеморации) еще сохраняла компоненты, связанные с конфессиональной составляющей, например с легендами о святых, эпическими героями исламизации, с религиозными ритуалами и праздниками.
НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ И О ПЕРЕМЕНЕ ПИСЬМЕННОСТИ (ПЕРВАЯ ПОПЫТКА СУЩЕСТВОВАВШАЯ ПОЧТИ 5 ЛЕТ – ЛАТИНИЗАЦИЯ НА КОТОРОЙ ИЗДАН ДАЖЕ НАВОИ) И ПОСЛЕ 1932 ГОДА – КИРИЛЛИЗАЦИЯ… КА ЗАМЕТИЛ А.ФРИГНЕС (Ib IMPERIIO 2/2004, C.207) , НЕ ПИСЬМЕННОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛИЗАЦИЕЙ КУЛЬТ-Й ПАМЯТИ, А ТЕКСТЫ…
И ПОЭТОМУ ПЕРЕМЕНА ПИСЬМЕННОСТИ ПРИВЕЛА К РАЗРЫВУ С МУСУЛЬМАНСКИМ КОМПОНЕНТОМ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ, ОСТАВЛЯЯ ЕЕ В ФОРМЕ УСТНОЙ КОЛЛЕКТВНОЙ ПАМЯТИ, ЧТО ЕЩЕ БОЛЕЕ ПОДТОЛКНУЛО К МИФОЛОГИЗАЦИИ (Я БЫ ДОБАВИЛ В ТОМ ЧИСЛЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ И ДЖАДИДСКО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТАК ДАЛЕЕ).
С ТЕХ ПОР ДАЖе ИСТОРИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ (религиозное по сути) НАСЛЕДИЕ СЕКУЛЯРИЗИРОВАЛОСЬ… (ХОРОШИЙ ПРИМЕР – КНИГА А. КАЮМОВА..)..
«Исламская память» была переориентирована скорее в «национальную память» (в чем особую службу сослужили джадиды), каковой прцесс был частью похожих явлений в исламском мире (особенно на фоне распада Турецуой империи),… . В советское время «нац-е креативы» (сопровождаемы е нац-ией и мифоллогизацией истории) оказались доминирующими и сопровождались произвольным разделением региона на «нац-е территории» (республики). Нац-й нарративы оказались настолько сильными в памяти, что теперь наблюдается попытки формирования «национальных исламов» (апеллирующим к нац-м особенностям ислама).
В последнем случае, «вспоминания ислама» («реисламизация») в пост-советское время поставило еще одну проблему – стоит ли придерживаться собственных национально-культурных особенностей…. (ваххабизм). Ваххабиты старались превратить Религию в источник государственного (гражданского) права и единственным ориентиром в формировании норм поведения… Это по сути реакция на былые расколы в исламе, которые стали пагубны в столкновениях с более сильными «неверными»…
Но национализм в странах региона ЦА оказался сильнее религиозноых принципов и «религиозной памяти». Хотя в некоторых случаях, местный национализм пытается «вобрать» в себя религиозную память, поскольку прошлое связано с исламом и креативы нац-х историй не могут обойтись без конфессиональной составляющей.
Таким образом в ЦА колониального периода вопрос об ассимиляции перестал быть актуальным, по крайней мере, как некой «программы». Хотя реально такой «программы» ( в смысле широкомасштабных государственных мероприятий) не существовало, за исключением, может быть Р-Т школы,[129] которые тоже не особенно были популярны.
??
—
И последнее. Если планы по культурной ассимиляции русского Туркестана в силу многих причин не могли обрести массовый характер, то политическая (имперская) интеграция местной элиты всех уровней в той или иной степени состоялась.[130] Это касается и мусульман, кто не утратил своей исламской идентичнсости. Например, ощущение себя в составе России привело к появлению спецефических самоназваний среди большинства местных верующих (например, «русские мусульмане», а затем и «советские мусульмане»[131]). Более того, в момент двух русских революций масса политических движений и партий (как исламского, так и националистического толка) в своих политических программах ставили вопрос о той или иной степени автономии (даже с самостоятельной армией и валютой), однако о полном выходе из состава России (тогдашней РСФСР) не заявлял никто, по крайней мере, на территории Туркестана.[132]
Б.М. БАБАДЖАНОВ
Инстиут Востоковедения АН РУз, Ташкент
НО МЕСТНЫЕ В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ТОЖЕ К РОССИИ И РУССКИМ ОТНОСИЛИСЬ ПО РАЗНОМУ, НО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО КАК К ТЕОРИТИЧЕСКИ НЕЛЕГИТИМНОЙ КОНФЕСС-Й ВЛАСТИ.
SUMMARY
In this article B. Babadjanov discusses the reaction to the Andizhan uprising of 1898 of Russian experts and politicians, especially of those who worked in Turkestan that time and stirred a new round of discussions on «the Muslim question». The issue is discussed in its relationship to historiographic and methodological debates on Russian «orientalizm» (concept of «knowledge and the power») and the status of «Russian experts» of Turkestan. The article also presents a brief analysis of local sources, which reflect views towards colonizers, or “a look from the South (‘the East ’)”, from the perspective of traditionalist–conservatives (among which, it could be argued, was Dukchi Ishan, the leader of the Andizhan uprising of 1898), who extremely negatively perceived «mixing with Russians/unbelievers». In this context, an examination is given to positions of both “parties” of colonization process, their understanding of forms of the mutual interaction, and peculiarities in perception of each other derived from the point of view of each one’s respective native cultural and/or religious traditions.
[1] Статья написана в рамках проекта «Islamic Area Studies» Tokyo University (координатор – проф. H. Komatsu), а так же программы автора по фонду “Fulbright” (Indiana University). Выражаю благодарность С.Н. Абашину, сделавшему мне интересные замечания в ходе работы над статьей.
[2] Hisao Komatsu. The Andijan uprising and Dukchi Ishan // Toyshi Kenkyu. 1986 Vol. 44. No 4. Pр. 1-31 (in Japan. Translated by author); В. M. Babadžanov. Dukčī Īšhān und Aufstand von Andižan 1898 // Anke von Kügelgen, Mikhael Kemper, Dmitriy Ermakov (Eds.). Muslim Culture in Russia and Central Asia from 18th – to the early 20th Centuries. Vol. 2 (Inter-Regional and Inter Ethnic Relations). Berlin, 1998. S. 167-191; Idem. Дукчи Ишан и Андижанское восстание 1898 года // Подвижники ислама. Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе (Сб. ст.) / Сост. С.Н. Абашин и В.О. Бобровников. Москва, 2003. С. 251-277; Манāкиб-и Дукчи Ишāн (Аноним жития Дукчи Ишана – предводителя Андижанского восстания 1898 года). Введение и перевод: Б.Бабаджанов. Ташкент-Берн-Алматы, 2004; Hisao Komatsu. The Andijan Uprising Reconsidered // S.Tsugitaka (Ed.). Muslim Societies: Historical and Comparative Perspectives. London, 2004. Рp. 29-61; Idem. Dar al-Islam under Russian Rule // U.Tomohiko (Ed.). Empire, Islam, and Politics in Central Eurasia. Sapporo, 2007. Рp. 9-18. Неожиданное толкование моей позиции в вопросе о восстании Дуки Ишана см: Алимова Д. История как история, история как наука. Ташкент, 2008. С. 54-65.
[3] См., например: Daniel Brower. Turkestan and the Fate of the Russian Impire. London and New York, 2003. Pp. 88-10; Robert D. Grews. For Prophet and Tsar. Islam and Empire in Russia and Central Asia. London, 2006. Pp. 287-89, 343-47. Hisao Komatsu. Dar al-Islam under Russian Rule. Рp. 9-18.
[4] См. дискуссию по этому вопросу, разгоревшуюся после публикации статьи Натаниэля Найта по поводу возможности применения концепций Эдварда Саида к русскому «ориентализму» (Knight N. Grigor’ev in Orenburg, 1851–1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? // Slavic Review. 2000. Vol. 59. Pp. 74-100). На эту статью среагировал Адеб Халид (Khalid A. Russian History and the Debate over Orientalism // Kritika. 2000. Vol. 4. Pр. 691–699), доказывая на примере деятельности знаментого Н. Остроумова правомерность применеия саидовской концепции к русскому «ориентализму». В этом же номере журнала «Kritika» опубликован ответ Н.Найта А. Халиду (On Russian Orientalism: A Response to Adeeb Khalid // Kritika. 2000. Vol. 4. Pp. 701–715) и комментарий их дебатов М. Тодоровой (Todorova M. Does Russian Orientalism Have a Russian Soul? A Contribution to the Debate between Nathaniel Knight and Adeeb Khalid // Kritika. 2000. Vol. 4. Pp. 717–727). Позже, российский исследователь С.Н. Абашин предложил более взвешенные подходы в оценках колониальной истории Туркестана и особенно статуса «ориенталиста-эксперта», работающего на колониальные власти. Абашин С.Н. В.П. Наливкин: «…будет то, что неизбежно должно быть; и то, что неизбежно должно быть, уже не может не быть…». Кризис ориентализма в Российской империи? // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Сборник научных статей к 50-летию профессора А.В. Ременева / Под ред. Н.Г. Суворовой. Омск, 2005. С. 44-46.
[5] Там же. С. 47-56.
[6] См. достаточно краткий, но содержательный анализ «западной» лиетратуры по этому вопросу, опубликованной примерно за последние 10 лет, Алексея Миллера. Миллер А. Российская империя, ориентализм и процессы формирования наций в Поволжье. // Ib Imperio. 2003, № 3. С.393-406.
[7] Достаточно вспомнить Ахмада Даниша, дамулла Икрамча, Садр-и Дийā (Зийā), ставших фактически предтечами движения младобухарцев. Менее исследованным в этом отношении остается последняя четверть XIX века в Хорезме, где появление движения младохивинцев пока выглядит не как зародившееся на основе внутренней эволюции, а скорее как продукт внешнего влияния.
[8] Наиболее обстоятельное исследование в этом смысле в последние годы выполнены (независимо от оценок) профессором С. Агзамходжаевым (Агзамходжаев. С.. История туркестанской автономии (Туркистон мухторияти)». Ташкент, 2006 (там же основные источники).
[9] В.В. Бартольд История Культурной жизни Туркестана. Соч. Т. II, ч. 1. Москва, 1966. С. 297-298.
[10] Adeeb Khalid. The Politiques of Muslim Cultural Reforme: Jadidism in Central Asia. Berkeley. 1998, Pp. 50-61; Brower. Turkestan, P. 113-117.
[11] Имеются в виду предложения отказаться от «политики игнорирования», что вызвало обширную переписку колониальных властей с властями в метрополии (см. часть этой переписки на сайте https://zerrspiegel.orientphil.uni-halle.de Последнее обновление 16 сентября 2003). Свое отрицательное отношение к «политике игнорирования духовных дел мусульман России» высказывает и другой эксперт Н.П. Остроумов. (Н. Остроумов Колебания во взглядах на образование туземцев в Туркестанском крае (Хронологическая справка) // Кауфманский сборник, изданный в память 25 лет, истекших со дня смерти покорителя и устроителя Туркестанского края генерал-адъютанта К.П. фон-Кауфмана I-го. Москва, 1910. С. 139-160). Об этой же политике «игнорирования ислама» см.: Рыбаков С.Г. Устройство и нужды управления духовными делами мусульман России (1917) // Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика) / Сост. Д.Ю. Арапов. Москва, 2001. С. 293-297.
[12] Вакф/waqf (от арабского «в-к-ф» — остановить) – как юридический термин означает приостановку права на какое-либо частное имущество в пользу богоугодного сооружения, или иные благотворительные дела.
[13] И это несмотря на то, что идеологическими стимулами восстания оставались религиозные парадигмы, со смутной апелляцией к турецкому султану (в качестве «Халифа мусульман»). Особенно интересен факт, что перед самым выступлением Дукчи Ишан, по старой традиции, был «поднят в ханы», чем политическая подоплека восстания была обозначена наиболее ярко.
[14] В своей статье я уже останавливался на «суфийской составляющей» Андижанского восстания. См.: Babadžanov В. M. Dūkči Īšān und Aufstand von Andižan 1898. S. 190-191. Мне кажется говорить об Андижанском восстании, как о «суфийском движении» соврешенно неуместно, учитывая те серьезные трансформации, которые имели место в суфизме. Ясно, что обсуждение Андижанского восстания как «дервишеского газавата», да еще и уподобление его восстанию Шамиля в Чечне (совершенно несравнимые по масштабам и организации выступлениям!) было инициировано в упоминаемых здесь документах, в работах местных русских ориенталистов, что ввело в заблуждение даже такого искушенного исследователя как В.В. Бартольд, неожидано заявившего об ишанах как о «главных врагах русской власти» (В.В. Бартольд История культурной жизни. С. 273-274). Сравните: R. Grews. For Prophet and Tsar. Pp. 288-89.
[15] Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-губернатора от инфантерии Духовского «Ислам в Туркестане». Ташкент, 1899 год // Императорская Россия и мусульманский мир / Сост. Д.Ю. Арапов. Москва, 2006, С. 142-178.
[16] Там же, С. 142-143.
[17] Между прочим, по предположению издателей (А.Ю. Арапов и Е.И. Ларина), в подготовке доклада особенную роль сыграл выдающийся этнограф и знаток местного края В.П. Наливкин (Там же. Предисловие к изданию. С. 139-140). Нам кажется, что не меньшее участие в составлении «исследовательской» части документа (особенно, что касается информации об образовательных учреждениях) мог принимать и Н.П. Остроумов, так как части документа, касающиеся «туземного образования», явно заимствованы из его публикаций (наряду с идеями В.П. Наливкина). Н. Остроумов. Колебания во взглядах на образование. С. 139-160. Хотя вопрос о составителях документа остается открытым.
[18] Об опыте организации русско-туземных школ в Волго-уральском регионе см. : Geraci R.P. Window to the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Ithaca, NY, 2001. Pp. 116-158. Исследователь полагает, что эти школы (по крайней мере, в момент руководства ими знаменитого тюрколога В.В. Радлова) были объектами не столько русификации и христианизации, сколько инструментами воспитания гражданственности и секуляризации (с. 157). С. Абашин (со ссылкой на эту же работу R.P. Geraci) полагает, что «Политика устройства русско-туземных школ в Туркестане явно перекликалась с политикой устройства русско-татарских школ» (С. Абашин. В.П. Наливкин. C. 77, прим. 87). Однако, программы туркестанских русско-туземных школ (как в русском Туркестане, так и в ханствах) разительно отличалась от татарских. С целью привлечения в них детей местных мусульман (по инициативе Н. Остроумова), в программах этих школ основную часть предметов занимали русский язык позже религиозные (исламские) науки (в их начальном виде), а идеи гражданственности и, тем более, секулярности не оглашались вообще (S. Sulaymonov. Russ-tuzem maktablari va ularning o’quv dasturlari. Magistrlik malakaviy ish / Автореферат магистерской диссертации. Ташкент, 2001. С. 20-34).
[19] Общий свод комиссии по вопросу мусульманского Духовного управления в Туркестанском крае // Императорская Россия / Сост. Д.Ю. Арапов. Москва, 2006. С. 201-221.
[20] Там же. С. 194-201.
[21] Там же. С. 198, 200, 202, 203-204.
[22] Во время «административного упорядочивания» в киргизской/казахской степи у колониальной администрации возникли такие же опасения относительно возможного «соединения большого рода под властью одного начальника» (М.А. Тереньтьев. История завоевания Средней Азии. М., 19 Т. III, С.343). Эта устойчивая фобия «нежелательного единения» объектов колонизации еще одна черта политики Российской империи, заимствованная затем и в бывшем СССР во времена «нациестроительства».
[23] В упомянутом докладе генерала Духовского, Духовные управления мусульман Империи обвинялись в «антирусской и антихристианской пропаганде» (Доклад, С. 147-48). Именно поэтому было предложено (еще до составления доклада) создать «административное Духовное управление», под руководством администратора (скорее всего, одного из русских экспертов края).
[24] Речь в документе идет, видимо, об «отпадении» (повторной исламизации) крещенных татар. См.: Загидуллин И. Причины отпадения старокрещенных татар Среднего Поволжья в мусульманство в XIX в. // Ислам в татарском мире: история и современность / Сб. ст. под ред. С.А. Дюдуаньона, Д. Исхакова, Р. Мухаметшина. Казань, 1997. С. 34-56 (там же библиография).
[25] Ален Франк. Татарские муллы среди казахов и киргизов в XVIII-XIX веках // Культура, искусство татарского народа: истоки, традиции, взаимосвязи / Сб. ст. под ред Р.Хакимова и Р. Мухаметшина. Казань, 1993, сс. 124-132. О татарском влиянии в Степи русские ориенталисты говорили еще до завоевания Туркестана и протектората над Бухарским и Хорезмским ханствами (W. Dowler. Classroom and Empire: The Politics of Schooling Russia’s Eastern Nationalists, 1860-1917. Toronto, 2001. Pp. 27-28).
[26] Этот тезис, который часто используется многими современными исследователями тоже тербует пересмотра, так как речь не может идти о «слабой религиозности» кочевников, у которых, совершенно очевидно, были собственные представления о религии, они оставались верны устоявшимся у них религиозным ритуалам (как бы мы их не называли – «шаманизм», «доисламские реликты» и проч.).
[27] Ефрем Елисеев. Записки миссионера Буконского стана Киргизской миссии за 1892-1899 гг. СПб, 1900. Характерно начало книги: «В 1881 г., когда еще магометанство, как черная туча, сплошь и рядом покрывало киргизскую степь, а <…> татары, <…> сарты, персиане и арабы, как хищные коршуны, терзали степных киргиз <…> на окраине русского государства, <…> указом Святейшего Синода была открыта противомусульманская Киргизская духовная миссия» (С. 4).
[28] Доклад. С 141; Общий свод, С. 193.
[29] Записка С.Ю. Витте по мусульманскому вопросу, 1900 г. // Императорская Россия / Сост. Д.Ю. Арапов. Москва, 2006. С. 242-261. Записка составлена в достаточно жестком критическом стиле (по отношению к предлагаемым силовым мероприятиям Духовского) с аргументированными и рациональными предостережениями. По замечанию издателя, в составлении документа принимали участие эксперты, хорошо осведомленные в вопросах ислама и о положении дел с «мусульманством» в Российской империи (предисловие издателя, С. 242).
[30] Там же. С. 253-55.
[31] Доклад. С. 154, 156, 163. См. так же Н.[П.] Остроумов. Колебания во взглядах. С. 151. О «правильном образовании» (конечно, в русском понимании) среди туземцев говорил и С.Ю. Витте, более трезво оценивший собственно Андижанское восстание и мероприятия государства по «мусульманскому вопросу» (см. ниже).
[32] Горшенина С. Крупнейшие проекты колониальных архивов России: Утопичность тотальной Туркестаники генерал-губернатора Константина Петровича фон Кауфмана // Ib Imperio. 2007, № 3. С. 2-64.
[33] См., например: Кокан(д)ское ханство // Грамотей. 1876, № 3. С. 55-67 (редакционная статья).
[34] Так, например, один из анонимных авторов (возможно из военно-политических кругов) того времени, пытаясь доказать правомерность ликвидации Кокандского ханства, пишет: «Поэтому желательно, чтобы сила послужила действительному (с)охранению наших владений [в Средней Азии], что возможно только тогда, когда в эти … степи проникнет европейская культура, если сила найдет себе освящение в цивилизации, для которой она будет служить только охранительницею. … (русский народ) обладает свойством осваивать и притягивать (к) себе чуждые народности, по крайней мере, те, которые стоят ниже его на ступенях просвещения» (подчеркнуто нами – Б.Б.). Конец Коканского ханства // Санкт-Петербургские ведомости. 1875, № 224. С. 2.
[35] Горшенина С. Крупнейшие проекты. С. 46.
[36] См. подробней: Абашин С.Н. «В.П. Наливкин», С. 43-96.
[37] Деятельность и позиции Н.Остроумова, как «эксперта-ориенталиста», в контексте русского «ориентализма» и колониализма рассмотрены в упомянутой статье: A. Halid. Russian History. Pp. 691-99. См. так же: Алексеев И.Л. Н.П. Остроумов о проблемах управления мусульманским населением Туркестанского края // Сборник русского исторического общества. 2002, № 5 (153). С. 89-95.
[38] Я совершенно согласен с Н. Найтом, заметившим, что не стоит смешивать «русский ориентализм» и востоковедение (On Russian Orientalism. P. 712). Но из этого, очевидно, не должно следовать, что востоковеды были в принципе против колонизации.
[39] Впрочем, по воспоминаниям современников, действительными инициаторами ужесточения политики был не сам «слабый здоровьем» ген. Духовской, а его заместитель Н.А. Иванов, и особенно непосредственный начальник генерал-губернатора военный министр А.Н. Куропаткин. (Федоров Г.П. Моя служба в Туркестане (1870–1906 года) // Исторический вестник. 1913. № 12. С. 870-872).
[40] Сборник материалов по мусульманству (Сб. ст.) // Сост. В.И. Яровой-Равский. Санкт-Петербург, 1899. Вып. 1. (Составитель вып. 2 – В.П. Наливкин. Санкт-Петербург, 1900). Хотя в «Сборнике» были представлены более нейтральные и познавательные статьи В.Л.Вяткина, С. Лапина, В.П. Наливкина.
[41] Доклад капитана Давлетшина по содержанию «Сборника материалов по мусульманскому вопросу» // Императорская Россия / Сост. Д.Ю. Арапов. Москва, 2006. С. 233-237.
[42] Там же. С. 236-237.
[43] Записки П.А. Столыпина по “мусульманскому вопросу” // Императорская Россия / Сост. Д.Ю. Арапов. Москва, 2006. С. 318-337. Издатель показал, что оба документа фактически были подготовлены русскими этнографами (а затем работниками государственных структур) братьями А.Н., Н.Н. и В.Н. Харузиными (там же, введение к изданию. С. 316).
[44] Там же, С. 327-331, 335-36.
[45] Там же, С. 337-342.
[46] Фраза Н. Остроумова (Колебания во взглядах. С. 159). В русской колониальной политике термин культуртрегеры понимался как «просветительство туземцев». Кроме названной статьи Н. Остроумова см.: S.A. Zenkovsky. Kulturkampf in Pre-Revolutionary Central Asia // American Slavic and East European Review. 1955. Vol. 14, № 1. Pp. 15-20, 40-41.
[47] Центральный государственный архив РУз. Ф. И-1009 («Н. Остроумов»). Оп. 1. Д. 78, папка I (без пагинации).
[48] «Записка о возможных соотношениях между последними событиями в Китае и усилением панисламистского движения» (Составлена [В.П. Наливкиным] по распоряжению … С.М. Духовского) // Императорская Россия / Сост. Д.Ю. Арапов. Москва, 2006. С. 181-190. Автор говорит, что необходимо «спокойно и обдуманно ждать мусульманского газавата» (С. 171); и уже совсем в хантингтоновском стиле утверждает, что газават «которым ныне ислам грозит уже европейской цивилизации, неизбежно вспыхнет, как только мусульманство … успеет объединиться и окрепнуть настолько, чтобы дать нам солидный реванш» (С. 188). Хотя в другой своей работе (В.П. Наливкин. Туземцы раньше и теперь. Ташкент, 1913) В.П. Наливкин отказывается от этих своих идей, критикуя даже миссианские порывы своих соотечественников (С. 60-64, 77, 82, 83, 102, 103 и др.). С другой стороны, он пишет, что обоснование русских в крае заставило местное автохтонное население «отказаться от надежды на наш добровольный уход из края и помириться с мыслью о неизбежности если не сближения с нами [=русскими]», то, во всяком случае, совместной жизни под туркестанским небом» (С. 78).
[49] См., например, его интереснейший труд, написанный совместно с супругой: Наливкин В.П., Наливкина М.В. Очерк быта оседлого туземного населения Ферганы. Казань, 1886. Остальную библиографию работ В.П. Наливкина (в том числе и ссылки на неопубликованные его работы) см.: С. Абашин. В.П. Наливкин.
[50] Там же. С. 57-58, особенно С. 75-80.
[51] Сравните с ничем не обоснованными утверждениями П.П. Литвинова, уверяющего, что В.П. Наливкину удалось добиться снижения антирусских настроений среди «туземцев». Литвинов П.П. Государство и ислам в Русском Туркестане (1865–1917) (по архивным материалам). Елец, 1998 С. 122–123, 140–142.
[52] С. Абашин. В.П. Наливкин. С. 95-97.
[53] См., напрмер, упомянутые выше статьи А.А. Семёнова и Н.Остроумова.
[54] Н. Остроумов. Колебания во взглядах. С. 139-141.
[55] Д. Сталюнас. Границы в пограничье: белорусы и этнолингвистическая политика Российской империи на западных окраинах в период великих реформ // Ib Imperio, 2003, № 1. С. 261-292. М. Долбилов «Царская вера»: Массовые обращения католиков в православие в северо-западном крае Российской империи (1860-е гг.) // Ib Imperio, 2006, № 4. С. 225-270.
[56] Его позицию в «мусульманском вопросе» см. в вышеупомянутой его статье: «Колебания во взглядах».
[57] Хотя нельзя отрицать и значительного влияния этой идеологии на некоторую часть читающей интеллигенции.
[58] В.В. Бартольд. Панисламизм. Соч. Т. VI, Москва, 1966. С. 402.
[59] С.Н. Абашин. В.П. Наливкин. С. 70, прим. 74.
[60] Собранный им материал по теме «Обычное право у киргиз» составил основное содержание книги Н. Гордекова (Н.И. Гродеков. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области. Ташкент, 1899).
[61] Возможно поэтому Н. Гродеков не включил А. Вышнегорского в соавторы, хотя и ссылается на него.
[62] В.В. Бартольд. История культурной жизни. С. 306-307.
[63] Биографию одного из таких учителей русско-туземной школы Алексея/‘Али-Асгара Калинина (по сохранившимся дневникам в семейном архиве) изучила моя ученица Дилдора Хамидова (Xamidova D.S. Mustamlaka davrida Toshkent va Farg’onada Islom dinini qabul qilgan rus mutaxassislar. Ali Asg’ar Kalinin misolida [Magistrlik dissertatiya]. Toshkent. 2005). Интересно, что этот же специалист упомянут у В.В. Бартольда как автор учебников для русско-туземных школ (История культурной жизни. С. 309).
[64] Цитата произведения Дукчи Ишана «‘Ибрат ал-Гāфилин» (Наставление заблудшим) Рукоп. Института востоковедения АН РУз, № 1724, л. 263.
[65] Сам В. Наливкин изложил свои очень интересные наблюдения по этому поводу в упомянутой книге «Туземцы раньше и теперь» (С. 94-102 и дальше).
[66] А. Эркинов. Андижанское восстание его предводитель в оценках поэтов эпохи // Вестник Евразии. 2003, № 1. С. 111-137.
[67] Подробней: См.: Журнал «Haqiqat» как зеркало религиозного аспекта в идеологии джадидов. Факсимиле и исследования текста: Б.М.Бабаджанов. Токио, 2007. С. 46-48.
[68] Манāкиб-и Дукчи Ишāн. Введение, С. 12-17.
[69] Эти выступления описаны Ахмадом Данишем: Тарджимат ул-ахвāл-и амирāн-и Бухāрā-йи шариф аз амир-и Дāнийāл тā ‘аср-и амир ‘Абд ал-Ахад (Биографии амиров благородной Бухары от амира Данийала и до амира ‘Абд ал-Ахада). Рукоп. ИВ АН РУз № 2095, лл. 22а-23б; 29а,б. Интересную и достаточно полную информацию об этих движениях излагает и знаменитый востоковед (некоторое время бывший и в составе административной элиты Самаркандского округа) А. [А.] Семёнов. Покоритель и устроитель Туркестанского края генерал-губернатор К.П. фон Кауфман 1-й (материалы для библиографического очерка) // Кауфманский сборник, М., 1910, сс. ХХ, LI-LXII (сб. цитирован выше).
[70] О нем см. в цитируемом подробней ниже сочинении «Ансāб ас-салāтин», лл. 134а-150б.
[71] См. так же нашу статью: Russian Colonial Power in Central Asia as Seen by Local Muslim Intellectuals // B. Eschment, H. Harder (Eds). Looking at the Colonizer. Cross-Cultural Perceptions in Central Asia and the Caucasus, Bengal, and Related Areas. Berlin, 2004, Pp. 80-90.
[72] Сравните: С.А Дюдуаньон. Что такое кадимийа? Элементы социологии мусульманского традиционализма в татарском мире и в Мавераннахре (конец XVIII – начало XX вв.) // Ислам в татарском мире: история и современность / Сб. ст. под ред. С.А. Дюдуаньона, Д. Исхакова, Р. Мухаметшина. Казань, 1997. С. 59.
[73] Не случайно именно «татары» устремились в «киргиз-кайсацкую степь» дабы «исламизировать» тамошние народы и добились в этом, как полагают некоторые исследователи, некоторого успеха (Ален Франк. С. 124-132). Об этом же с тревогой говорят и авторы вышеприведенных Записок, как о потенциальном усилении ислама в Средней Азии, в контексте возможного противостояния с Россией.
[74] Еще в начале колонизации (до ликвидации Кокандского ханства в 1876 г.), злоупотребления местной колониальной администрации привело к «злобе местного населения», а с учрежденим генерал-гурнаторства (1865) многие кокандцы стали переселяться в китайский Туркестан/Синьзянь (Кашгар, Яркенд и др.). См.: А. Семёнов. Покоритель и устроитель Туркестанского края, С. X-XI. Однако позже, когда по инициативе К.П. фон Кауфмана стала проводиться более взвешенная политика с «уважением прав туземцев и невмешательством в духовную жизнь мусульманского населения», беженцы стали добровольно возвращаться в Туркестанский край (там же, с. LXXVI).
[75] Хидāйат-и му’минин (Праведный путь верующих). Рукоп. Института востоковедения АН РУз, № 9379.
[76] См.: Ш. Зиёдов, А.К. Муминов. Библиотека Дукчи ишана (статья со сводными таблицами опубликована как приложение к упомянутому изданию Манāкиб-и Дукчи Ишāн, С. 232-271). Там же история этой библиотеки. Исследователям удалось идентифицировать примерно треть этой библиотеки.
[77] Хидāйат-и му’минин. Л. 91б-92а.
[78] Ансāб ас-салāтин ва тавāрих-и хавāкин (Родословная султанов и история хаканов). Рукоп. Института востоковедения АН РУз, № 7515. Характерна фраза автора: «му’мин-у тарсā аралаш» (смешались правоверные и христиане. Л. 152).
[79] См. более подробно: Р.Н. Набиев. Из истории Кокандского ханства (феодальное хозяйство Худаяр-хана). Ташкент, 1973. С. 10-11.
[80] Там же. С. 83-85. См. так же: А. Семёнов. С. LVIII-LX.
[81] Ансāб. Стихи автора на Л. 152а-153б.
[82] Об этом говорится в предисловиях обоих сочинений Муллā ‘Āлима. Кроме того, в оценках колонизации (при всей их противоречивости) местная пишущая интеллигенция из «модернистов» все более настаивала прибегнуть к обширным заимствованиям (особенно техническим) у русских или европейцев, начиная понимать более глубинные причины собственного кризиса и отставания. Ясно, что реформационное движение (ал-ислāх) в мусульманском мире, в том числе и в Средней/Центральной Азии, было серьезно стимулировано именно самим процессом колонизации и привело к тому, что замствования оказывались все более и более обширными, включая не только внешние атрибуты (например, русский/европейский стиль одежды, технические заимствования и пр.), но и политические и даже некоторые социальные институты, что особенно проявилось в момент двух последних революций в метрополии (1917). См. так же: Adeeb Khalid. The Politiques of Muslim Cultural Reforme.
[83] Конечно, этническая идентичность авторов подобных сочинений (особенно Муллā ‘Алима) имеет свои особенности, и не совпадает с современной. Хотя в самом начале своего сочинения (Л. 2 а,б) автор обращается к сакральной истории узбеков (!), приводя их «священное родословие», восходящее к ветхозаветным пророкам, одновременно называя «лучшие племена» узбеков и «худшие из них» (Л. 4б-17б, 77 а,б).
[84] Ансāб. Л. 153 а,б. Между прочим, некоторые новшества (например, более комфортные дома и массу «русских вещей») с удовольствием стали использовать многие аристократы Коканда (до его ликвидации) и даже сам Худаяр-хан, за что попадали под критику значительной части духовенства, увидевшей в этом признаки «отступления от веры» (Р.Н. Набиев. Из истории, С. 81). Хотя автор «Ансаб» не включает в этот список «отступающих от веры» (за приверженность к «вещам, одежде и образу жизни неверных») своего покровителя – Худаяр-хана, утверждая противоположное – будто с приходом русских и подписания кабальных договоров с генералом фон Кауфманом, хан стал «еще больше следовать шар‘иату, уважать улемов и мулл» (Л.113а). Возможно, такое поведение (и соответствующая риторика) и могли иметь место в «идеологических мероприятиях» Худайар-хана, дабы смягчить отрицательную реакцию на свои «общения с русскими и показную любезность к ним». Однако Худайар-хан, будучи возведенным на престол во время своего второго правления бухарским амиром Насруллой, потерял Бухару в качестве внешнего гаранта сохранения престола от напиравшей оппозиции кипчаков. И судя по переписке с русскими (Р.Н. Набиев. Из истории, С. 78-80), теперь такую гарантию сохранения престола он видел в русских войсках, пускаясь на крайне непопулярные мероприятия для пополнения казны в экономически истощенном ханстве. Эта поддержка непопулярного хана привела к тому, что (по выражению замечательного знатока тогдашних реалий А.П. Хорошкина) местный народ стал «бранить нас (=русских) в глаза и за глаза» (Там же. С. 83).
[85] Ансāб. Л. 155а.
[86] По удачному замечанию Э. Олвортца поэзия на Востоке оставалась самым распространенным видом общественной коммуникации и информационного обмена, внушения этических норм, краткого и ёмкого изложения мысли и нравственных норм (E. Allworth. The Changing Intellectual and Literary Community // Central Asia a Century of Russian Rule (ed. Edward Allworth). NY and London, 1967, p. 398).
[87] Более подробный анализ этого произведения см.: Б.Бабаджанов. Андижанское восстание. С. 257-264.
[88] См., например: Мухаммад Хакимхан [тура] ибн Ма‘сум-хан [тура]. Мунтахаб ат-таварих. Подготовка факсимильного текста, введение и указатели А. Мухтарова. В 2 книгах. Книга вторая. Душанбе/ 1985; منتخب التواريخ. جلد دوم. تألف محمد حكيم خان. تصحيح – يايوئى كاواهارا٬ كوئيچى هانه دا. توكيو: مؤسسه مطالعات فرهنگ ها و زبانهاى آسيا و آفريقا٬ 2006 .
[89] А. Эркинов. Андижанское восстание его предводитель. С. 111-137.
[90] См. нашу статью «Russian Colonial Power in Central Asia». И, конечно, особый случай представляют собой джадидские публикации.
[91] Мухаммад Йунус Хваджа б. Мухаммад Амин Хваджа (Та’иб). Тухфа-йи Та’иб. Подготовка к изд. и пред. Б. Бабаджанова, Ш. Вахидова, Х. Коматцу. Ташкент, Токио, 2002. Предисловие, С. 7-8; текст, С. 24-26.
[92] Бабаджанов Б.М. Дукчи Ишан и Андижанское восстание. С. 272, 277; Hisao Komatsu. Dar al-Islam under Russian Rule. Pp. 16-17.
[93] Н. Веселовского отрудно назвать «русским ориенталистом» в том смысле, котором этот термин (внешне адекватный определению «востоковед») теперь используется. См. прим. 38.
[94] Н. Веселовский. Киргизский рассказ о русских завоеваниях в Туркестанском крае. СПб, 1894. С. 90.
[95] Исключение составляет краткий комментарий В.В. Бартольда, который привел в качестве дополнения другой рассказ о русских завоеваниях Мулла Нийāз-Мухаммада (В.В.Бартольд. …). Интересный разбор публикации Н.Веселовского вместе с похожим рассказом, опубликованным Н. Самойловичем см. в работе Олвортца (…)
[96] Например, очень символична в этом отношении критика «нешариатского» в среде «степняков» (сахрāйи) Хаким-хана тура…
[97] Я сейчас сознательно не затрагиваю методологического вопроса о характеристике «исламского» и «неисламского» в ритуалах и повседневной практики в местных социумов, поскольку специально разбираю этот вопрос в своей монографии, над которой сейчас работаю. В числе прочего я ставлю вопрос о природе образования Кокандского ханства по типу «микро-империи», поскольку ханство расширялось за счет завоевания соседних независимых владений, или областей, находящихся под протекторатом соседней Бухары.
[98] Б. Бабаджанов. …
[99] Н. Остроумов. С. 146.
[100] Бакиров Ф. Казийские суды в Туркестане до Октябрьской революции 1917 года (неопубликованная статья, библиотека Института Востоковедения АН РУз, 1968 г.).
[101] В дальнейшем колонизация ускорила знакомство местного населения с техническими новшествами и их освоение, подстегнуло процесс вовлечения местного населения в общемировые процессы.
[102] М. Долбилов. «Царская вера». С. 253. В дискуссии Империо» Девид Ровлей (с. 81) говорит, что в СА ислам был поощерен как как цивилизованная и стабилизированная религия» (???!!) Это утверждение едва ли соответствует истине, по крайней мере, не отражает всей сложной палитры мнений и суждений об исламе и отношения к нему и его носителям.
[103] Исключение составляли, как сказано, миссионеры.
[104] М. Долбилов. «Царская вера». С. 233.
[105] Интересные идеи по поводу «пантюркизма» (в сочетании с «панисламизмом») в России и Турции сделал Кемал Карпат, подчеркивая, что российские реформаторы (прежде всего, Исмаил Гаспринский) инициировали собственные версии общетюркской унификации (K.H Karpat. The Politicization of Islam. Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State. Oxford, 2001. Pp. 276-293, 295-296). Хотя нужно иметь в виду, что наши суждения о «пантюркизме» в России пока основаны исключительно на публикациях рефоматоров («джадидов», «ислāхчилер»). И мы не знаем (или знаем очень поверхностно) − как воспринимались эти идеи (эта идеология) в среде простых верующих и как они (не самые последние акторы в этом грандиозном проекте тюркской этнической унификации) смотрели на своих «соплеменников» – тюркоязычные эносы и народы других регионов Российской империи. Ведь эти народы в большей степени руководствовались совершенно разными версиями коллективной памяти, в том числе и относительно собственной истории, не включающими такие обширные географические пространства. Возможно поэтому, формирование национального сознания у этих народов осталось в той или иной степени отчужденным, что было затем закреплено большевиками.
[106] См., напиример достаточно пространный очерк В.П. Наливкина (Туземцы. С. 49-55), который, однако продемонстрировал крайне смутное знание суфизма, тем более социальную роль ишана. Не избежал подобного утверждения и В.В. Бартольд, писавший, что «главными врагами русской власти были степные ишаны, что особенно ярко проявилось в Андижане в 1898 г.» (В.В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана. С. 373).
[107] Об этом пишет и В.П. Наливкин (Туземцы.С. 99-102).
[108] Б.Бабаджанов. …
[109] Там же.
[110] В.П. Наливкин. Туземцы раньше и теперь. С. 26-28, 62-74 и дальше.
[111] В.В. Бартольд. История культурной жизни. С. 373-74.
[112] Манакиб
[113] Азизи…
[114] (Аб Империо 3,2003, «Заочный круглый стол, мысль М.Долбилова»). *В дискуссии менее всего обращено внимания на Туркестан. В целом эта дискуссия еще раз продемонстрировала маргинальность (идея Горшениной) среднеазиаских (ЦазиатскиХ исследований в Росси империи.
[115] В.В. Бартольд. История культурной жизни. С. 348. Более полноценное восприятие русской культуры сформировалось уже преимущественно в советское время.
[116] Об этой идее русификации «туземцев» в Туркестане через сеть русско-туземных школ см.: В.П. Наликин. Туземцы. С. 102-103. Хотя созданная в 1884г. секретная комиссия пришла заключению, что «знакомство с народной жизнью и исламом заставляет очень умеренно и осторожно относится к надеждам на возможнсть успешной русификациитуземного населения … ибо до тех пор, пока они остануться мусульманами, они вряд ли могут обрусеть…» (С. 102-13)
[117] Непопулярность русско-туземных школ власти старались стимулировать денежными поощрениями обучающихся, отчего обучение обретало скорее вид коммерчской сделки, нежели добровольного участия в «самопросвещении» В.П. Наливкин. Туземцы. С. 107.
[118] В.В. Бартольд. История культурной жизни. С. 310-314. Особенный скепсис в отношении русско-туземных школ высказывал В.П. Наливкин (Туземцы. С. 102-111).
[119] Обучение на русском языке было проблеммой для белорусов, где было решено, что без белорусского не обойтись не только в школах, но и дальнейшем обучении (Сталюнас, с. 270, Ib Imperio, 2003, №1. С. 270).
[120] В.В. Бартольд. История культурной жизни. С.
[121] В.П. Наливкин. Туземцы. С. 77-100, 119-125.
[122] Правда, эти порывы и ориентиры дж-в резко меняются с социализацией этого дв-я и затем большевизацией. И не случайно, многие дж-ды оказались в рядах самых активных атеистов… -Хакикат).
[123] В.П. Наливкин. Туземцы. С. 137-141, 143.
[124] Там же. С. 140-142.
[125] Я. Зурбавель. Динамика коллективной памяти [перевод главы из монографии] // Ib Imperioю 2004, № 3. С. 76.
[126] Хотя старые компоненты народной памяти еще живы и они вполне удачно теперь вписываются в новую манипуляцию коммеморативной памяти.
[127] Я. Зурбавель. Динамика. C. 77.
[128] Неважно что в этой новой истории создано и остается много мифов. История (особенно как часть коллективной памяти) – это всегда миф той или иной степени. И в новых вариантах коллективной памяти мифов ничуть не больше, чем в старых. Одновременно советская манипуляция коллективной памятью породила у нескольких поколений ощущение единой «советской истории» (например, истории Великой отечественной войны), что и вовлекло нации в советское политическое пространство. Интересно, среди старшего поколения простых мусульман Узбекистана мне удалось записать легенды (пополнившие эту самую коллективную память), героями которых выступал святой пророк Хизр, дух Амира Тимура, И. Сталин.
[129] Еще одно исключение – попытка лит-чтений в среде местнойц интеллигенции, переводы на узбекский (сартский) и таджикский русской светской и богословской литературы, что имело скорее спорадический характер и держалось на энтузиазме таких одиночек как Наливкин, Остроумов и др.
[130] Более подробно этот вопрос я разбираю в специальной статье с рабочим названием «Секуляризм и исламизация в ЦА».
[131] В советское время даже издавался журнал «Совет мусулмонлари» («Советские мусульмане» – с 1947 г.) с переводом (с 1965 г.) на многие языки.
[132] С.Агзамходжаев. Туркестанская автономия. С. 18-42 и далее. Инерция политической интеграции с Россией оказалась живучей и дожила практически до последних лет перед падением СССР. Когда в инициированном М. Горбачовым массовом опросе «за» и «против» сохранения СССР (1989 г.), более всего голосов «за» было получено в южных социалистических республиках. Даже тогдашний среднеазиатский муфтият (САДУМ во главе с новым муфтием – депутатом Верховного совета СССР Мухаммад-Содик Мухаммад-Юсуфом) выступал с призывами к верующим проголосовать за сохранение страны Советов, однако, с предоставлением бóльших свобод верующим.